Учимся растить любовью. Дети, новости, тревоги
– Я хочу нашу тему подать так, чтобы мы затронули очень важные вопросы, как формировать в ребенке нечто неизменное. Я очень рада, что сегодня в гостях не психолог (хотя я очень люблю своих гостей-психологов), а именно священник, и мы поговорим о том, как воспитать в первую очередь христианина, чтобы ни новости, ни тревоги не становились такими фатальными, какими они могут быть для человека без веры. Вы работаете с современными детьми, Вы духовник воскресной школы, а значит, представляете себе, каковы тревоги, порожденные информационным потоком, который нас давно не радует. Итак, какова же ситуация?
– В нашей воскресной школе мы стараемся избегать каких-либо политических тем, потому что дети из разных семей могут иметь разные представления о реальности, соответственно, могут возникнуть и вражда, и даже ненависть. Мы с нашими преподавателями стараемся говорить о Христе, о законе Божием, о своих предметах как о том, что имеет ценность независимо от окружающего мира и от того, что в нем происходит. Это не значит, что люди равнодушны. Мы хотим привить детям взгляд на мир как на создание Бога. Человек несет в себе образ и подобие Бога, в том числе свободу. Конечно, эту свободу каждый из нас проявляет более или менее успешно, и тут возможны ошибки, в том числе чудовищные.
Часто приходится слышать вопрос: «Как Бог такое допустил?» Если мы не обратимся к учению о человеческой свободе, то будем вынуждены признать Бога виновным за несправедливость и все ужасные теракты, которые происходят. Поэтому необходимо говорить о том, что у нас есть поле собственной свободы; Бог нам даровал это поле, и мы на этом поле трудимся.
Давайте мы, взрослые, посмотрим на свою собственную жизнь: разве у нас не было ошибок личных, семейных, профессиональных, каких угодно? Ошибки были. Мы можем оценить во взрослом состоянии, какие наши неверные шаги привели к какой-то неудаче. Я думаю, так и в более глобальном масштабе можно объяснить детям, что то, что происходит, происходит в том числе по человеческим ошибкам. Можно приплюсовать сюда, конечно, и бесовские действия.
Чрезмерно просто сказать: «Вот это сделал сатана, а вот это Бог». И исключить действия человека; это будет ложный ход. Сказать, что все это сатана и человек – тоже неверно. Тут нужен всесторонний подход. И это должен быть такой подход, в котором всякой ненависти, нелюбви противопоставляется Божественная любовь. И если мы детям говорим о какой-нибудь Божественной ненависти, мы лжем. Мы говорим только о Божественной любви. А то, что происходит в мире, происходит или по попущению Божию, или по действию сил врага нашего спасения – сатаны, или по действию наших ошибок, что тоже нельзя исключать.
– Мы сегодня вывели в название нашей темы слово «тревоги». Иногда дети мало что знают о новостях, но тревожный фон появляется в семье. Родители начинают так или иначе транслировать страхи, дети начинают это перенимать, и возникает повсеместное тревожное расстройство. Психологи говорят, что к ним обращается очень много не только взрослых людей, но и семей с детьми. Может ли общение с Живым Богом обезопасить нас от тревог и страхов, чтобы мы хоть в какой-то мере научились полагаться на Его волю? Как показывает практика, нам всем этого очень не хватает.
– Я думаю, что дети малые, младенцы пока не осознают какие-то тревожные сигналы, они достаточно блаженные. На лицах маленьких или только родившихся детей, которых приносят или приводят в храм причащать, тревоги я не замечал; они находятся в состоянии естественного богообщения. А вот дети постарше, подростки уже воспринимают эти тревожные сигналы, они много сидят в Интернете, слушают, ищут какого-то авторитетного взрослого или группу сверстников, которые им что-то объяснили бы.
Здесь, мне кажется, очень важным является пример родителей, авторитетных взрослых, которые не носятся со своими страхами, а, несмотря на страхи, молятся, несмотря на недоумение, подходят к Святым Христовым Таинам, причащаются Тела и Крови Христовых, что превозмогают любую негативную реальность. Сыночек или дочка видят, что папа молится, продолжает причащаться, исповедоваться, продолжает верить в Бога. Мне кажется, без родительского примера просто никуда. Если колбасятся родители, дети тоже будут колбаситься, они вряд ли будут умнее и спокойнее своих родителей. Если родители видят добро как нечто вечное, незыблемое, чувствуют Христа Бога, Который над миром, но и сущий в мире, тогда все иначе.
Как интересно говорит православное богословие: Бог и непостижим, и Абсолют, и находится в этом мире, и мы можем следовать за Ним в перипетиях этого мира. Если взрослые являют пример веры, то и дети являют это же. Вижу это по детям нашей воскресной школы. Мы стараемся, чтобы у детей была вера в Бога; не вражда и неприятие другого, а, наоборот, молитва за другого.
Если ты считаешь, что другой человек, или другая семья, или целая группа людей заблуждается, ты их ненавидишь и убиваешь (что сейчас, к сожалению, и происходит на наших глазах) или молишься за них, молишься об их вразумлении, чтобы Господь открыл истину и тебе, и им. Если мы обращаемся к Богу, Абсолюту, Тому, Кто создал этот мир для жизни и блаженства, неужели Господь, создавший нас, не откроет нам Свою правду, не откроет пути к прекращению зла?
– Можно ли сказать, что страх и тревога – это сигнал, что мы несколько отдалились от Бога, не очень верим в Его благую волю? Или же это совершенно естественное состояние? Я говорю не о страхе Божием, а о страхе перед испытаниями, трудностями, перед тем, что может произойти, перед будущим.
– Я думаю, Вы правы, это говорит о нехватке веры, доверия Богу. Бывает так, что умственное построение о Боге, Церкви, богословии, какие-то знания не спасают, не держат, когда наступает реальное испытание. Нас держит звонок другу. Мы звоним другу: «Как дела? Все нормально? Спасибо, поддержал». А у нас, получается, по канону – так-то, по этой книжке – так-то, значит, мы в тупике, все пропало. А где надежда? Надежды почти нет.
Мне кажется, очень важен навык молитвы в недоумении, когда ты чего-то не понимаешь. Страшнее всего человек, который абсолютно уверен в своей правоте. С такими людьми невозможно разговаривать ни на какие темы, потому что они абсолютно уверены в своей правоте. Как раз таких фарисеев, законников Господь грозно предупреждал об опасности такого состояния. К грешникам, мытарям, блудникам и всяким ворюгам Господь более милостив, потому что они прекрасно понимают, что грешники. А с человеком, который вознесся в своей мнимой праведности, как работать? С таким человеком очень сложно даже разговаривать.
Мне кажется, если мы таких людей не будем потенциально отвергать, но будем за них молиться, будем просить Бога о вразумлении и себя, и таковых, тогда будет мир или устремленность к миру. А если человек уверен, что он прав, он может взять какой-нибудь меч. Как апостол Петр взял кинжал и отрезал ухо человеку при аресте Иисуса Христа. Господь моментально исцеляет это. Но даже это не вразумляет людей, которые уверены в своей праведности, уверены, что такой-то человек – грешник, его надо казнить и так далее. К сожалению, даже смерть не вразумляет людей, которые уверены в своей правоте, в своих взглядах.
Сейчас все больше открывается ужасный аспект – озлобленность возрастает: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. Вот такая ветхозаветная парадигма. И мы тут от христианства уходим. Если мы будем уходить от парадигмы «око за око» в наших семьях, наших разговорах, наших классах, наших храмах, тогда будем следовать Человеколюбцу Иисусу Христу.
– Мне очень понравилось, что Вы говорите о молитве в недоумении. А можно ли это передать своим детям и научить их молиться, когда у них сомнение, страх? Как этот навык можно передать? У Вас есть какие-нибудь советы на этот счет?
– Приведу пример. Одна многодетная мама поехала с детьми на микроавтобусе на юг. Папа работал, и она повезла детей на юг сама. Ночью у них спустило колесо. В микроавтобусе 8 детей. Что делать? Она вызвала сотрудников полиции, те приехали, и она им стала объяснять, что спустило колесо и она сама не может справиться, какая-то гайка заржавела. Дети проснулись, смотрят на все это. Сотрудник полиции тоже гайку отвернуть не смог и сказал, чтобы она вызывала ремонтников. Напомню, дело было ночью. Тогда эта мама сказала: «Подождите». Она сосредоточилась, перекрестила эту гайку и сказала: «Попробуйте теперь». Гайка отвернулась, они заменили колесо и поехали дальше.
Эта мама сделала по-человечески все, что смогла, но не сработало. А потом она стала молиться: «Господи, помоги», – и все получилось. Такой пример веры мамы для детей очень важен.
Наверное, у каждого из нас были такие ситуации. Например, у нас были походы с ребятами, и тоже были сложные моменты. Например, ты плывешь, еще немножко остается до берега, но понимаешь, что сейчас пойдет дождь. И молишься о том, чтобы дождь не пошел еще каких-то 10 минут, чтобы ребята доплыли до острова, успели высадиться, чтобы никто не замочился. Такие моменты, мне кажется, нас учат жить, учат молиться.
– Получается, без личного примера веры не обойтись. Насколько я понимаю, Вы говорите о том, что словами мы мало что можем дать, эти слова нужно подкреплять молитвой в нужный момент. Если мы будем учить ребенка только на словах, при этом сами будем забывать в сложной ситуации, что нужна молитва, то, наверное, ничего и не получится.
– Дети чувствуют, считывают наше внутреннее содержание. Они чувствуют наше вранье, нашу показуху или обиду, усталость. То есть мы перед детьми насквозь просвечены. И очень важно благочестие родителей. Они, может быть, не знают, как читать молитвы, не знают наизусть все молитвы утреннего или вечернего правила, а читают, например, Серафимовское правило или только «Отче наш» утром и вечером, но в остальном не лгут, не подставляют друг друга, не обижают своих друзей, соседей, любят животных. Бывает так, что дети взяли животных, а отвечают родители. А родители устают, и эти животные оказываются где-то в загоне и так далее. Нужно, чтобы ребенок понимал: если взяли животное, ты за ним убираешь, ты с ним гуляешь, а не перекладываешь это на маму и папу, которые и так работают. Важно, чтобы детки чувствовали свою ответственность.
Почему сейчас у детей компьютерная зависимость или желание поскорее посмотреть какую-нибудь новость? Потому, что ребенок почти ни за что не отвечает. В школу он ходит немножко по принуждению. Дома он мало за что отвечает. Иногда родители все-таки дают ему задание, говорят, например: «Бабушка не сможет сама сходить в магазин, сходи с ней или вместо нее». Тогда ребенок чувствует свою маленькую ответственность и эту ответственность несет.
У нас в воскресной школе, например, до сих пор над входом в один класс крестик висит. Десятилетний мальчик прибил его сам, и это был для него прямо подвиг. Он принес из дома гвоздь, молоточек, поднялся на парту, прибил. И этот крестик до сих пор висит.
Мне кажется, когда ребенок делает что-то сам, отвечает за что-то в семейном пространстве, тогда он этим дорожит и менее подвержен волнам внешнего влияния. Ведь на это внешнее мы никак не можем повлиять. Мы можем повлиять на свой ближний круг: на семью, друзей, школу, приход, воскресную школу. Но как мы повлияем на мир своими действиями?
Ребенок должен быть занят делами. Например, у нас в школе самый любимый класс – столярного дела, потому что ребята могут что-то сделать руками. Мне кажется, когда мы детей учим что-то делать, тогда они менее подвержены тревогам и влияниям извне. Они могут принести в этот мир игрушку, сделанную своими руками, поделку, и это их наполняет.
А когда их волей-неволей переполняют какие-то грандиозные, катастрофические события, они, конечно, боятся, воспринимают это как неотвратимое зло. Мне кажется, нам самим надо меньше думать о неотвратимом зле, а думать о Господе Иисусе Христе и делать свои дела. Как тот мальчик, который из «Крокуса» вывел более ста человек. Он – школьник, который подрабатывал гардеробщиком, но он сделал свое дело; он знал, где выход, знал, куда идти, не испугался. Если бы каждый из нас делал свое дело на своем месте, а не задумывался о том, как мир будет жить в следующем году, тогда мы лучше жили бы.
– Я согласна, что из мира идей надо все-таки спускаться в мир дела. Но мы, к сожалению, настолько затоплены информационным потоком, что из него очень редко выныриваем, а иногда и с большой неохотой. Труд становится тяжелым именно из-за того, что мы ему не отдаемся всем сердцем.
– Он обессмысливается, потому что новости настолько страшные, что под сомнением уже само существование мира, его целесообразность. Мы забываем первые главы Книги Бытия: и се добра зело (Быт. 1, 31). Мир хорош; это сатана, это человеческий грех внесли в него такую дисгармонию. Но мир хорош, он создан Богом. Когда мы об этом напоминаем лишний раз всяческим образом, тогда у наших детей идет возврат к Книге Бытия, а не к книге смерти.
– Еще хотелось бы услышать мнение по поводу явления, которое сейчас наблюдается. Многие от тревог, информации, вражды между людьми пытаются сбежать: уезжают, например, жить за город. Многие многодетные семьи открыто говорят, что хотят сделать государство в государстве. Они повторяют чужие слова, но тем не менее... То есть говорят: «У нас будет все хорошо». Насколько утопична такая идея? Можно ли сбежать от мира, захлопнуться от него каким-то образом? Найти узкий круг людей, с которыми будет приятно общаться, найти приход, где с батюшкой будешь на одной волне, и жить спокойно, без тревог? Или это все-таки иллюзия?
– Когда я учился в школе, у нас несколько молодых преподавателей были сторонниками коммунарского движения (это были 60–70-е годы). В условиях города они съехались в один дом, в один подъезд, несколько лет так жили, вместе растили детей, в одной школе преподавали. Было какое-то время хорошо; наверное, это была некая защита от давления коммунистического государства, которое строило коммунизм, а они строили некую идеальную семью, идеальное общество. Но, к сожалению, потом все это разрушилось. То есть не получается такого идеального микрообщества, не хватает соков социума.
И сейчас такие идеи есть, но это, на мой взгляд, тупик. От себя мы все равно никуда не убежим. Мы все равно с собой принесем свои страсти, свое неумение жить с другими, свое осуждение. Я думаю, молиться за мир и стараться преобразить его, а не убегать из него – это более отвечает христианскому духу, нежели стремление построить какую-то отдельную деревеньку где-то в лесу, вдали от всех. Все равно понадобится еда, все равно нужно воспитывать детей. Где ты их будешь воспитывать?
К сожалению, православное образование тоже бывает похоже на такое гетто: вот тут у нас православная школа, тут все хорошо, а там грешники, мир, всякое плохое, туда не суйтесь. Но дети, оканчивая эту школу, идут потом в институт и оказываются неподготовленными к тому, что мир не такой гладкий и красивый, как их учили, в нем есть разные проблемы, наркозависимость и всякие бяки.
Нужно учиться жить в этом несовершенном мире, не боготворя его, не говоря: «Ах, какой у нас прекрасный мир, мы всем довольны, у нас все хорошо». Нет, мы видим, он полон недостатков, полон греха, злобы и насилия, особенно сейчас. Но изначально мир был создан Богом весьма хорошим, очень хорошим, замечательным. Надо помнить об этом. И с грехом, который и через меня, может быть, пришел в мир, надо бороться. А мы часто видим грех в другом или в тех других: дескать, вот тех надо победить, тех надо убить, и тогда все будет хорошо. Насилие на насилие дает только большее насилие и боль. Мы уже проходили это в истории нашей страны, и дай Бог, чтобы больше такого не было.
– Резюмируя нашу беседу, попробуем дать какие-то советы непосредственно родителям. Можно сделать какие-то выводы из нашей беседы, а можно просто порассуждать о том, что мы хотим дать детям как будущему поколению, чтобы мир становился лучше. Хотя не знаю, становится ли он лучше; может, человек всегда одинаков. Разные могут быть этапы в развитии человечества. Но если мы что-то можем дать своим детям, какую-то прививку, какой она должна быть? Если веру, то как мы ее должны дать, чтобы дети не отошли потом от Церкви и не разочаровались в чем-то?
– Я бы хотел вспомнить один пример из русской эмиграции. Был такой епископ Мефодий (Кульман), я писал о нем работу. В своей жизни и деятельности (а он был епископом, издателем, настоятелем, благотворителем) он старался убегать от любого политизирования и никому не клеил ярлыков. В своей воскресной школе он учил детей истокам веры, истокам русской истории и литературы, не делил людей и не говорил, что вот это черные сатанисты, а вот это светлые коммунисты; он уходил от этого. Он старался дать понятие о вечном, незыблемом, о том, что не пройдет, несмотря ни на какие войны и социальные катаклизмы.
Мне кажется, когда мы будем избегать черно-белых оценок и как верующие люди приходить к Вечному Богу и Спасителю всего мира Иисусу Христу (Он не сказал, что пришел только к еврейскому народу, Он пришел ко всем), тогда и нам будет легче, и нашим деткам будет легче, и мы будем сострадать этому миру, который корчится и извивается во зле и грехе…
Автор и ведущая программы Марина Ланская
Записала Нина Кирсанова
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Четверг, 02 мая: 00:30
- Пятница, 03 мая: 05:30
- Суббота, 04 мая: 08:05
Анонс ближайшего выпуска
В преддверии Воскресения Христова поговорим о православных настольных играх. Гости студии - священник Владимир Коваль-Зайцев и Вероника Кунина, соавторы проекта "Воскресная школа. Игры о самом важном". Познакомимся с игрой "Мемо Пасха". Поговорим о глубоком значении слова "память". Узнаем, как можно через игру начать разговор о смысле евангельских событий и подвести к размышлению о Пасхе.
Мы в контакте
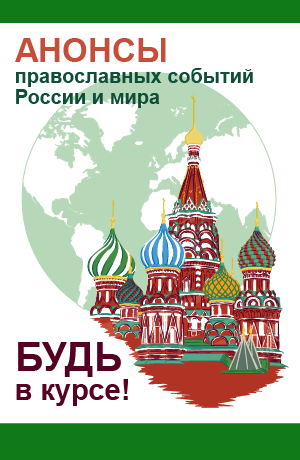
Последние телепередачи
-
 1 мая 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
1 мая 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 1 мая. Великая Среда. Мученик Иоанн Новый
-
 1 мая 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
1 мая 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 1 мая 2024. Приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову
-
 1 мая 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
1 мая 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
Читаем Апостол. 1 мая 2024
-
 1 мая 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
1 мая 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 1 мая
-
 1 мая 2024 г.
«День ангела»
1 мая 2024 г.
«День ангела»
День ангела. 1 мая
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







