Великий покаянный канон Андрея Критского объясняет священник Константин Корепанов. Часть 14
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
Третий тропарь 5-й песни: Аще испытаю моя дела, Спасе, всякаго человека превозшедша грехами себе зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением.
Тут все понятно: если я начинаю испытывать свои дела, то я вижу, что всякого человека превзошел грехами. Почему? Ведь очевидно: я вот в приличной одежде; вот я даже в рясе с крестом... Неужели я хуже, скажем, какого-нибудь пьяного человека, лежащего в собственной нечистоте где-нибудь на привокзальной площади? Неужели я всерьез могу считать себя хуже, чем он? Да ведь? Но если мы сравним те благодатные дары, которые нам были даны, то воспитание, которое мы получили, те книги, которые мы прочитали, то знание, которое мы имеем, с тем, что имел он, то мы увидим, что на самом-то деле наши грехи страшнее. Он-то, может, и не знал никогда ничего, ни одной книги не прочитал, и родители его ничему не научили. А мы? Всё знаем – Евангелие вдоль и поперек перечитали, а исполнять не исполняем.
Например, человек, привыкший выпивать; допустим, даже человек, страдающий алкоголизмом – ему плохо, тяжело. Он идет, еще покупает, пьет. Грешник – понятно. Вот я христианин. Допустим, священник. У меня, скажем, плохое настроение, я устал. Я прихожу домой, мне невесело, грустно. Наливаю себе, скажем, полстакана вина. Грех? Нет, не грех. Выпил это вино – радостно, хорошо, дальше пошел делать свои дела. Вот он, напившийся, по причине своего абстинентного синдрома, и я, который с устатку выпил полстакана вина, – ну разве можно сравнивать? Можно. Меня ничего не мучит. И я как священник должен не в вине искать утешение, а встать на колени и обратиться к Богу. Я на молитве говорю: «Ты моя радость, Ты для меня все, Ты жизнь моя, дыхание мое, радование мое, живот мой». Где живот твой? Тебе стало плохо – и ты выпил полстакана вина? Ты правда говоришь, что Бог для тебя все? Тогда иди ищи в Боге утешение, а не в полстакане вина.
А тот человек – он не знает никакого Бога, этих слов не знает и не говорит их никому, и вообще у него руки трясутся, он не в состоянии помолиться, он не знает, что такое молитва. Он просто пытается единственным доступным способом снять напряжение своего физиологического существа. Это грех, но по-другому он не умеет. А я умею, но выбираю то же самое, что он. Так кто из нас хуже? Мы привыкли оценивать по внешности, поэтому ходим самодовольные.
Покаяние, о чем и говорит нам канон Андрея Критского, учит нелицеприятному отношению к себе в первую очередь. К себе! Что на самом-то деле ничего из того, что я сам говорю, я не делаю. Я в молитве говорю: «Ты жизнь моя». А сам готов по два-три раза в день кушать с удовольствием. А когда меня зовут: «Батюшка, пойдем помолимся», я говорю: «Да нет, давай чуть попозже… Ну ладно, так и быть, пойду помолюсь. Как надоели все эти просящие – приходи в нужное время да молись, сколько тебе надо. Давай вот хоть сократим немножко службу. Тяжело же, я только поел, молиться не могу…» Вот сократили – молебен послужу, скажем; молитвы почитаю. Все хорошо, помолились замечательно, но так меня этот просящий достал, честное слово! Пойду еще поем. Поел, снова выхожу и говорю: «Христос, дорогой, жизнь наша!» Какая же жизнь, если на самом деле жизнь твоя, твой бог – чрево, а вовсе не Тот, Который распялся за тебя!
И вот если бы каждый человек судил себя такими словами, то у нас бы сил не было на то, чтобы делать какие-то вещи в свое удовольствие. Потому что мы бы глаз от стыда поднять не смели на людей, обличаемые со всех сторон, как тот же канон говорит: со всех сторон приперт моей совестью. Совесть нас не обличает. Никак. Потому что мы все немножко фарисеи, мы все в глубине души говорим, приходя в храм: «Благодарю Тебя, Господи! Ох, как я Тебя благодарю, что я в храме все-таки, а не на улице, как эти алкоголики, бесприютные души, сектанты, еретики и прочие. Благодарю Тебя, что я здесь!» И внутренне мы гордимся тем, что мы такие правильные, хорошие.
И вот так мы гордимся, любуясь на себя со стороны. («Как я сегодня умилилась у иконочки, у меня прямо аж слезы текут, текут, рекой текут... Так хорошо, так хорошо! Как там живут эти безбожники окаянные? Или сестра моя, например? Вот угораздило же родиться-то, а? Сколько раз ей говорила: ты, такая-сякая, почему в храм не ходишь? Нет, все-таки хорошо с Богом, здорово! Слава Тебе, Господи, что я здесь!») Мы все этим живем, а потом, выходя из храма, судим всех направо и налево, превозносимся над всеми и не понимаем, что происходит. Хорошо хоть – заповедь знаем; мы знаем, что так не должно быть, но почему-то не понимаем, что происходит и как иначе… И если это осуждение лежит у нас на сердце, мы в глубине души считаем себя лучше, чем все другие. Как их нам не осуждать?
Когда человек вот так переживет этот ужас, эту истину слов, что хуже его нет никого на этой земле, не было и, дай Бог, никогда не будет (ну, может, антихрист только), эта мысль должна придавить его к земле, вжать в землю, раздавить всю гордыню, все самолюбие, все самомнение – и тогда он не сможет никого осуждать. Просто не сможет, потому что корень осуждения – гордыня. Если ее раздавили, нечем осуждать, нет этого органа, из которого рождается осуждение. Нет. И для этого и канон. А мы должны помнить слова о том, что кому много дано, с того больше и спросится. И если вы ходите в храм, значит, с вас спросится больше, чем с тех, кто не ходит в храм. Не наоборот. Не их будут судить за то, что они не ходят в храм, а нас будут судить за то, что мы в него ходим, а меняться не хотим, не собираемся, не будем, а только гордимся и превозносимся. Это и есть закваска фарисейская.
Четверг, 4-я песнь, третий тропарь. Хотя тут надо со второго начинать, иначе непонятно. Царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек и праведный богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы царства, обнищав, лишися.
Речь идет, разумеется, об Иове: он был царь, был украшен венцем, то есть всеми достоинствами царской власти, он имел много (многоименный человек), но при этом был праведником, кипел богатством, стадами – и вдруг внезапно богатства и славы царства лишился, обнищал.
И третий тропарь продолжает этот рассказ: Аще праведен бяше он, и непорочен паче всех, и не убеже ловления льстиваго и сети, ты же грехолюбива сущи, окаянная душе, что сотвориши, аще чесому о недоведомых случится наити тебе?
То есть хотя Иов был и праведен, и не более порочен, чем все, но он не избежал козней льстивого сатаны, не избежал сети лукавого сатаны. Все равно он попался в эти сети. Ты же, душа, окаянная, грехолюбивая, что сможешь сделать, если что-то из недоведомых (сложных) обстоятельств, бесовских таких искушений случится с тобой? То есть если праведный чуть не попался, то что же ты, окаянный, делать будешь? Ты, грешник и грехолюбивый, что же ты делать будешь? Если Иов был чистым, непорочным, каялся каждый день не только за себя, но и за своих детей, однако не избежал бедствия, то как душа, которая любит грех, сможет перенеси те сложные обстоятельства, которые с ней произойдут? Как? Ведь именно то, что мы любим грех, и делает нас способными попасться в сети сатаны.
И именно это грехолюбие делает нас немужественными, когда приходит бедствие. Мы не можем перенести бедствия, которые с нами произошли. И мы впадаем в отчаяние, ропот, уныние. Почему? Потому что грехолюбивы. Уныние не потому, что обстоятельства сложные, а потому, что мы грех любим. Уныние не потому, что нам тяжело жить, а потому, что жить-то мы хотим по грехам, а нам не дают.
Что страшнее того, что выдержал Иов? Что? Можно себе представить что-нибудь страшнее того, что выдержал Иов? В один день погибли все десять его детей. В один день погибло совершенно все его богатство, не осталось ничего. В один день он заболел болезнью, которая не только сама по себе болезненна, но и сделала его изгоем общества. Ни один человек, уважающий себя, подойти к нему не мог. Все это в один день, не постепенно, а сразу обрушилось на Иова. И что? Он впал в уныние? Ни капли! Вот она – праведность. Он не уныл, даже когда погибли все его дети. Он не уныл, когда лишился богатства. Никто так не лишался, а он лишился всего в один день – и не уныл. Он всю свою славу и здоровье потерял в один день и не уныл. Жена его уныла, расслабла, а он и тогда не уныл. И в уныние его ввергли только друзья, которые, вместо того чтобы его утешать и ему помогать, стали его обличать. Вот только это ввергло его в уныние. А до этого он стоял непреклонно – как адамант.
Поэтому если мы понимаем, что мы сейчас унываем, то надо честно себе признаваться: это не потому, что жить тяжело, это потому, что мы любим грех. Людям старшего поколения это хорошо известно. То есть кое-кто застал даже и 50-е годы, кто-то в 40-е, может быть, жил – много чего хлебнули наши дедушки, наши родители в своей жизни, и что же они? Они гораздо терпеливее относятся к разным житейским неурядицам. Мы, люди, которые в сознательном возрасте пережили 90-е годы, – ну, не такие, конечно, терпеливые, как колхозники советской эпохи, – но в целом-то ничего, тоже понимаем: в 90-е хуже было… В депрессию от того, что спички исчезли, мы не впадаем, у каждого кремень, да не один, в разных местах спрятан («как-нибудь справимся...») А вот нынешнее поколение вообще не обучено терпеть. Никак. Оно и не может выносить вообще любой жизненной сложности. А кто виноват? Так мы виноваты. Мы воспитываем ребенка так, чтобы он избегал трудностей. А потом, когда трудности приходят, мы удивляемся, почему он не может их переносить. А кто его учил переносить трудности? Кто ставил ему непосильные задачи, которые он должен был решать, которые он должен был преодолеть?
Таким образом, люди теряют способность к сопротивлению скорби, неудобствам этой жизни. И мы должны понимать, что за всем этим нашим унынием лежит просто жалость к себе, любовь к себе и любовь к комфорту, что, собственно говоря, одно и то же. Если бы мы не были такими, мы бы спокойно относились к тем обстоятельствам, которые нас встречают. И вот мысль этого тропаря в том, что если бы мы ненавидели грех, если бы мы победили грех, то тогда никакие обстоятельства этой жизни нас не пугали бы. И мы видим это по святым. Скажем, Сергий Радонежский не боялся татаро-монгольского нашествия (оно уже прошло, но карательные экспедиции могли еще периодически быть), он относился к этому ровно, спокойно, потому что человек, привыкший к скорби, к трудности, любящий Бога, а не комфорт, действительно становится мужественным и терпеливым, его нельзя ничем испугать. Он готов внутренне. Мы не готовы. Поэтому для нас это призыв к покаянию. То есть если мы поймали себя на том, что мы унываем, не надо искать виноватых, а надо понимать, что душа на самом деле ищет комфорта, ищет своеволия, а не того, что Бог в данном случае для нас предусмотрел.
Четвертый тропарь 4-й песни четверга: Высокоглаголив ныне есмь, жесток же и сердцем, вотще и всуе, да не с фарисеем осудиши мя, паче же мытарево смирение подаждь ми, едине Щедре, Правосуде, и сему мя сочисли.
То есть я говорю высокие слова (высокоглаголив есмь) и жесток сердцем, что бестолково, напрасно и суетно. Ты же не осуди меня вместе с фарисеем, но даруй мне смирение мытаря, едине Щедре, причисли меня к этому мытарю. Что такое высокие слова? В данном случае приводятся, конечно, слова фарисея, который хвалил себя и как бы благодарил Бога. На самом деле тут можно сказать, что каждый из нас имеет высокое мнение о себе. И вот это высокое мнение о себе и приводит к тому, что наше сердце становится жестоким. Не в смысле, что мы становимся жестокими, а сердце становится жестким.
Вот люди как говорят? «Хотел бы пожалеть, да не могу. Вот не жалеет сердце. Я вроде понимаю, что должен пожалеть его, а на сердце нет жалости». Скажем, приходит к маме дочка (не маленькая, большая, лет сорока) и говорит: «Мама, у меня беда, меня муж бросил». Что мама говорит? Ну, как правило, скажет: «А я тебе что говорила?! Я тебе сколько раз говорила! Ты почему меня не слушала? Видишь? Мать-то слушать надо! Ведь еще с детских лет говорила: слушай маму – и счастлива будешь». Что дочка сделает? Развернется и уйдет. Конечно. Так ты дочку-то обними, прижми к себе – у нее же горе, ее муж бросил. Горе у нее! Ты же сама ее без мужа воспитывала, знаешь, каково это. Обними дочку. Так ведь нет, невозможно. Она порой говорит: «Я бы с радостью, да как? Я хочу, но не могу». И вот это «не могу» настолько чистосердечное, настолько глубокое и искреннее признание! Не могу я, у меня сердце жесткое.
Отсюда и вырастают наши дети такими, они с детства встречаются с жестким сердцем родителей, которые за любую ошибку детей что делают? Отчитывают. И не понимают этого. Дети порой в родителях встречают продолжение начальников и учителей, а не маму и папу. Вот откуда эта жесткость. Почему Сергий Радонежский мог обнять и пожалеть? Серафим Саровский говорил: радость моя. И всем становилось хорошо в его присутствии. Иоанн Кронштадтский ко всем мог расположиться, даже к совершенно опустившимся людям, и люди чувствовали тепло, исходящее от него. Почему мы не можем? Ответ мы видим в Великом каноне Андрея Критского: высокоглаголив – я слишком высокого мнения о себе был всю жизнь, поэтому сердце у меня стало жестоким, жестким, не способным к состраданию. Я слишком много о себе думаю.
Как, таким образом, умягчить свое сердце? Надо перестать думать о себе высоко. Надо перестать думать, что ты какой-то особенный человек. То есть надо сокрушить свою гордыню, и вместе с сокрушением гордыни и умягчится наше сердце. Оно станет мягким, оно будет таять как воск, если мы перестанем думать о себе высоко. А для этого надо сокрушить гордыню. Это трудный вопрос, трудный. Ладно, если человеку в 20 лет менять свое жесткое сердце… А когда тебе 50, 60, 70 и ты привык сухо, методично относиться ко всем людям, которые приходят к тебе? Человек, безжалостный к себе, безжалостен и к другим.
С чего начать, как умягчить сердце? Начальный рецепт один: надо перестать именно говорить о себе. Молчать во всех случаях, когда хочется себя выказать. Все обмениваются богословскими мнениями, а ты молчи. У тебя сердце жестокое, жесткое, немилосердное – молчи. Все говорят о чем-то, обсуждают политику или еще что-то, а ты молчи. Все рассуждают о том, что они прочитали Игнатия (Брянчанинова) или Феофана Затворника, а ты молчи, как будто ты сроду их никогда не читал. Ты, конечно, их читал и наизусть можешь процитировать полкниги, но ты молчи, потому что тебе как раз нужно умягчить свое сердце. Перестань говорить высокие слова, перестань учить других людей, пока не умягчилось твое собственное сердце. Перестань быть наставником заблудших душ, пока сам немилосерден, жесток. Молчи.
И вот этому можно научиться. Просто сжать свой язык и никогда не говорить высоких слов, пока мы не научились обнимать приходящих к нам за утешением людей. Вот почувствовали, что можете обнять дочку, сыночка, да просто бабушку, которую жалко, которая плачет, мужчину, женщину, и слезы льются из ваших глаз, вы плачете вместе с человеком, радуетесь вместе с ним, – ваше сердце умягчилось. Можете говорить, если Бог дает такую возможность, дает вам такой талант. Но пока у вас не умягчилось сердце, не говорите. Вы делаете его еще более жестоким. Есть замечательные слова (как жалко, что их не читают в начале поста, их читают в конце поста) – 58-я глава Книги пророка Исайи (вся глава посвящена правильному посту). Там Господь говорит: вот пост, который Я избрал (много говорит, какой пост Он избрал). И далее: «Если ты перестанешь поднимать палец и говорить оскорбительно, вот тогда ты станешь настоящим постником». Понимаете образ, да? «Я тебе сколько раз говорила!!!» Вот это поучающее движение, вещающее, нравоучительное, надо особенно в пост просто забыть, просто сомкнуть свои уста и никого не учить жизни, пока у вас не умягчилось сердце.
Записала Елена Тимофеева
Нравится:
TweetМы в контакте
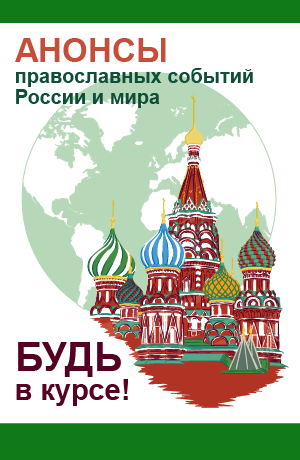
Последние телепередачи
-
 25 апреля 2024 г.
Прогноз погоды
25 апреля 2024 г.
Прогноз погоды
Прогноз погоды на 26 апреля 2024
-
 25 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
25 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
Богослужение 25 апреля 2024 года
-
 24 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
24 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
Беседы с батюшкой. Священник Петр Мангилев. 24 апреля 2024
-
 24 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
24 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 25 апреля
-
 24 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
24 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 25 апреля. Преподобная Афанасия Эгинская
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







