Великий покаянный канон Андрея Критского объясняет священник Константин Корепанов. Часть 10
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
Третий тропарь четвертой песни: Исава возненавиденнаго подражала еси, душе, отдала еси прелестнику твоему первыя доброты первенство и отеческия молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси, окаянная, деянием и разумом: темже ныне покайся.
То есть вспоминается известный сюжет про Исава, который, как мы помним, за чечевичную похлебку продал свое первородство и тем самым лишился отеческого благословения, отеческой молитвы, как здесь сказано. Андрей Критский тем самым говорит, что мы похожи на этого Исава. Но тут вот интересное выражение: «Исава возненавиденного». Почему он так называется? Потому что в Библии (не там, где стоит сюжет о чечевичной похлебке, а в другом месте, и у апостола Павла тоже) сказано: «Иакова Я избрал, а Исава возненавидел». Именно это здесь и упоминается: Исав был возненавиден Богом, а ты подражаешь тому, кого Бог возненавидел. Зачем ты это делаешь? Но каждый спросит: как же это мы так делаем? Мы же так не делаем. Мы же Исаву не подражаем. Мы же за чечевичную похлебку себя не продаем; и первородство свое не продаем. Но на самом деле мы так поступаем постоянно, и Великим постом в том числе, а уж не Великим и подавно.
То есть, по сути дела, стоит только прелестнику, который упоминается в этом отрывке (прелестник, искуситель, лукавый дух), предложить нам что-нибудь сладкое, что-нибудь вожделенное, что-нибудь приятное, хотя это и сопровождается нарушением заповеди Божьей, как мы тут же, не задумываясь, делаем то, что он нам предлагает. Даже вот самое простейшее: в пост приходим куда-нибудь, где кушают что-нибудь вкусненькое, и у нас сразу же мысли в голове – мы начинаем придумывать, по какому бы поводу мы могли бы здесь сейчас покушать. Являемся ли мы путешествующими? Находимся ли мы в гостях? А может, мы двое суток ничего не ели. Ну должна же быть какая-то причина, по которой мы сейчас здесь можем вкусненько покушать. И мы придумываем, находим с радостью эту причину и кушаем. А потом, когда приходим на исповедь, говорим: «Батюшка, я тут пост немного нарушил, но я ради общения, ради скромности, чтобы никто не догадался, что я пощусь». Мы нарушаем заповедь Божью, не исполняем то, что велит нам исполнять Бог.
Но если мы не соблюдаем заповедь Божью, нарушаем ее, значит, мы тем самым отвергаемся жизни. Ведь когда мы крестились, это читалось в апостольском отрывке. В день, когда мы погружались в купель, читались слова, что мы должны сделаться рабами праведности, как были некогда рабами греху. Но мы ведем себя как рабы греха, то есть стоит только греху нас поманить, мы тут же бросаемся на этот грех и отвечаем ему взаимностью. Тем самым мы отрекаемся от того нового звания, к которому призваны, от свободы сынов Божьих. Мы больше не сыны Божьи, мы ведем себя как рабы греха, как люди, за которых никогда не проливалась кровь Христова. Чего бы мы грешили? Ну, были бы у нас грешки невинные, о которых и сказать-то сильно нечего. Так нет же – у нас у всех грехи. Это же не просто так – невинные грехи. Конечно, среди нас, к счастью или к сожалению, Марий Египетских нет, никто блудом не грешит, никто в пост мясо не ест, никто никого не убивает, не грабит, дома не сжигает. Но на самом деле что мы говорим на исповеди? «Не могу простить, осуждаю, раздражаюсь, гневаюсь, молиться не умею». То есть обычный букет самых простейших наших грехов. Но каждый из этих грехов есть нарушение заповедей. Каждый. И мы говорим, что мы эту заповедь исполнить не можем. Значит, мы рабы греха? Мы не можем не раздражаться, мы не можем молиться за обижающих, мы не можем простить человека. Ну не можем – и все. Мы так и говорим: не могу. На исповедь приходим и говорим: не могу. Батюшка по неопытности своей пытается учить нас уму-разуму, говорит, как это сделать. «Да триста лет он мне нужен! Слушать его еще! Сказала ведь, что не могу. Ну что пристал? И не говори так, не учи меня жизни». Потому что мне так удобнее жить, сознавая, что я не могу так делать. Сердце у меня такое вот раздражительное, душа у меня такая вот обидчивая. Поэтому не могу я вот это сделать, не просите меня.
И это сплошь и рядом, и это я говорю про самых ревностных христиан, которые в храме не то что пять лет, даже не десять. Они всю жизнь ходят в церковь, но они приходят и говорят: «Батюшка, у меня, значит, такой грех: внук (племянник, дочь, сын, муж) приходит как-то и начинает смотреть сериал. И смотрит он его, и смотрит (в компьютер играет и играет). Я ему и так скажу, и так скажу, он все смотрит (или играет). Ну я так и согрешу на него, накричу, конечно. А что, батюшка, грех это или не грех?» – спрашивает человек с надеждой, что я скажу, что это не грех. Что правильно ты заботишься, ревнуешь о спасении человека. Но, по сути-то дела, сейчас здесь, на исповеди, человек что делает? Осуждает другого человека. Здесь, перед лицом Бога, он пришел осудить другого человека (не важно, кто тот: муж, племянник, соседка). Он его осуждает, не боясь ничего. И все остальное уже не имеет смысла.
Ведь исповедь начинается с того, что человек приходит и говорит: Господи, я согрешил вот этим, этим, этим; прости меня. А мы приходим и начинаем осуждать другого. В конце, где-то там, между делом, ставим строчку о том, что и у нас есть небольшой грешок, но после всего, что сказано, ведь священник должен понять (и я понимаю), что этот грешок такой маленький по сравнению с тем великим грехом, о котором я только что рассказал. Мы мало того, что осудили, мы еще обличили грех других, мы обнаружили его, мы раскрыли грех ближнего своего. Как это называется (в прошлый раз проходили)? Хамство называется. Мы еще и нахамили. Мы поступили как хамы, обнаружив перед лицом священника грех человека, которого священник и не знает, а уже о нем рассказывают.
Этот соблазн постоянно присутствует в нашей жизни. Мы легко нарушаем заповедь, даже не пытаясь для нее подвизаться, даже не пытаясь усиленно постараться, чтобы эту заповедь исполнить. Хоть бы побороться немного. Нет, мы будем бороться, стараться с тем, чтобы не есть скоромного, но мы не делаем ничего для того, чтобы простить, помолиться, покрыть немощь ближнего своего, хотя бы в пост не укорять никого, не раздражаться ни на кого, не обличать никого. И для Андрея Критского это очень болезненная тема, и даже во всем богослужении, не только Великого канона, в некоторых трипеснцах, которые поются в течение Великого поста, часто это говорится: что мы, как Исав, продаем свое первородство за какие-то ничтожные вещи, и они гораздо ничтожнее, чем чечевичная похлебка. Просто потому, что любогреховна наша душа, любит она грех, не любит она Бога. Стоит только предложить нам хоть некоторый повод…
И конечно, любой спросит: а как же тогда быть-то? Кажется, понятно, человек живет один дома, шторы опущены, дверь закрыта; видно по снегу, что никто давно не заходил к нему. Сидит человек в затворе, макароны закуплены, масло тоже, картошка в погребе есть. Что бы не сидеть? Чтобы никого не видеть, не слышать; глядишь, так и не согрешу. Да, одному человеку так проще, но на самом деле он ведь тоже лукавит. Он ведь сидит в доме для чего? Потому что ему так нравится. А пост – это время, когда он должен не себе служить, а другому служить, когда он должен как раз сделать что-то ради другого, а не ради себя. Если он и так любит сидеть дома, какой же у него тогда пост? Сиди дома и никого не встречай. А ты возьми и выйди на улицу. Ну, на улицу, может, и не надо. Там никто, кроме бродячих собак и заблудших людей, тебя не встретит, но ты приди в храм и постой с людьми в храме. Дома легче, а ты постой с ними в храме, раздели с ними совместную молитву, посмотри: может, кто-нибудь в чем-нибудь имеет нужду, может, надо где-то икону протереть, или пол помыть, или кому-то помочь… Но нет, это же тяжело, лучше у меня благовидный предлог: пост – сижу дома, имею право никому не помогать, ни во что не влезать, никого не доставать, сижу молюсь, читаю книги в свое удовольствие.
То есть лукавство многогранно, оно многосторонне, и разобраться во всем этом без духовника, конечно, сложно, но каждый христианин получил благодать Святого Духа. Если он просто хочет жить не по своей воле, не по своим прихотям и не по своим страстям, а хочет, чтобы была воля Божья, то, несомненно, он ее найдет, даже если нет рядом опытного духовника. Все равно где книжка подскажет, где сердце подскажет, обличит, где подруга или друг вразумит и скажет, как лучше делать. Но главное, что надо понимать: подобными чечевичными похлебками, страстно нами желаемыми, враг и уводит нас от высоты того нового бытия, в которое мы родились, когда крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот с этим надо быть просто очень осторожным.
И в этом тропаре говорится, что дважды поползнулась душа моя – и деянием, и разумом. Что имеется в виду? Можно взять того же самого Исава за образец. Он пал дважды – делом отрекся от первородства; и словом сказал и отрекся от первородства. Но прежде чем он отрекся от первородства словами, съев эту чечевичную похлебку, раньше этого у него произошло падение в разуме, потому что разум был равнодушен к первородству вообще. Ему дела до этого не было. И, наоборот, Иакову было дело до первородства, он с детских лет думал о том, как бы ему быть причастным к делу Божьему, которое затеял Бог через его праотца Авраама, как бы войти в эту последовательность предков грядущего Мессии, как бы быть причастным делу спасения человечества. Он думал об этом, разум его искал возможности, поэтому он так дорожил первородством. Не потому, что он хотел богатства (он ничего не получил в итоге-то), а потому, что он хотел быть с Богом. А Исаву, наоборот, до Бога не было никакого дела.
И вот это падение разума всегда предваряет падение телесное, падение словом – сначала оно происходит в уме. Сначала в уме мы теряем сознание того, что Бог нас видит, что Бог нас слышит, что Бог нам внимает. И когда мы потеряли это в уме, тогда и делом делаем легко все что ни попадя… Пришли мы, скажем, на канон Андрея Критского вечером в понедельник, почитали, настроились... Ум наш что-то получил, вот он внимает Божьим словам; может, даже сердце умилилось. Мы даже всплакнули немного; может, даже заплакали. И вот мы идем домой, а дома у нас что? Семья, которая с нами на каноне не стояла. Она в другой среде сейчас живет. Она моя семья, но она в другом мире, в другом измерении, если хотите, она на другую волну настроена. Поэтому я понимаю, что там меня встретит искушение, я знаю это. И я храню вот то восприятие, то покаяние, которое во мне родилось. И как я его храню? Вот мы идем: только бы сохранить мир, только бы сохранить, только бы не наругаться ни на кого, не сделать такого…
Приходим. «Ты где была?» – «Ну, я же тебе говорила, у нас канон Андрея Критского». – «Так долго?» – «Ну, служба три часа идет». – «Ужин почему не приготовлен? У ребенка уроки не сделаны. Тут беспорядок». (Ну, не больше, чем в другие дни, но вам кажется, что нынче эти обвинения не очень справедливые, они болезненнее, серьезнее.) Вы начинаете плакать, переживать, мир разрушен из-за того, что так получилось, радости никакой нет, покаяние ушло. Дальше что вы делаете? Ну, готовите ужин, конечно. А дальше? Ну, обиделись – это мы помним. А дальше? Вот именно: детям-то попадет! «Что же ты не мог уроки-то сделать?! Я же тебе все объяснила, что надо сделать. Я же просила тебя: сыночек, я иду на канон, ну сделай, пожалуйста; вот тут спиши, перепиши. Не мог, что ли, сделать? Ну почему ты папу достаешь? Ну сколько раз тебе говорено!»
Всё, нашумели, накричали. И, ложась спать, вставая перед иконами, мы вспомним этот канон: Господи, ну как тут не согрешишь? И с этой гаденькой мыслью ляжем спать. И так будет продолжаться всю неделю. Урок не выучен, канон прошел напрасно. А как надо? Вы ведь знаете, что вас ждет дома? Знаете. Но в глубине души вы надеетесь на что? Вы надеетесь: за то, что вы помолились, Бог сделает все по-другому – сейчас будет тишина и райская жизнь, ведь я же все-таки молилась, даже плакала. То есть вы ждете, настраиваетесь, что Бог даст так, что все будет хорошо, а происходит нехорошо. Ну ладно, нехорошо получилось. Дальше что? На вас накричали, на вас повысили голос, вам сказали, что вы нерадивая жена. Вы обиделись. Позвольте, а вы три часа назад о чем плакали? Вы не то же самое себе говорили? О чем вы плакали? О том, что не великая молитвенница? Тогда это очень плохо. Я говорю, и канон Андрея Критского говорит не об этом.
Если вы плачете о том, что вы не великая молитвенница, что вы не кушаете один раз в неделю, что вы ошиблись и не ушли в монастырь, в какую-нибудь там далекую пустынь на хлеб, на воду, что вы не можете молиться в течение семи часов подряд, то это всё прелести. И к покаянию это не имеет никакого отношения. Такое покаяние может быть (и то с сомнением) у какого-нибудь пустынножителя, им может овладеть такое покаяние, а для нас покаяние – это неправильное отношение к ближним. И если вы каетесь правильно, то вы себя упрекаете за то, что вы нерадивая жена и плохая мать. Вот настоящее покаяние всегда к этому приводит. То есть вы плакали о том, что вы нерадивая жена и плохая мать. Когда вам это сказали и показали, вы почему-то обиделись. Значит, вы каялись неискренне. Вы только каялись, а на себя со сторонки поглядывали. Вот есть в человеке лазутчик, маленький такой, сидит и поглядывает, как я со стороны выгляжу. Каюсь ведь, плачу, а в глубине души это: «Я вот не такая, как мои дети, муж, они не знают этой радости, покаяния не знают. О Господи, как же мне их привести к Тебе? Чтобы они плакали так, как я?!»
То есть в глубине души мы считаем себя лучше, чем они. Вот и все. Вот тот корень, на котором все положение наше как бы покаянного христианского человека выстраивается. И этот фундамент, этот корень Господь и хочет искоренить, потому и попускает, чтобы на нас накричали, наворчали, чтобы ты увидел: то, что ты говорил в храме, к искреннему покаянию отношения не имеет. Например, я хожу перед Богом и говорю: «Господи, я лентяй. Не молюсь, не пощусь, книг не читаю. Поплакал, поревел. Ну правда же, что же теперь сделаешь?» Прихожу на работу, и мне кричат: ты лентяй, планы не написал; то не сделал; с детьми не общаешься. А я возмущаюсь: да как? И очевидно, что я лукавлю. То есть если другие мне говорят то же самое, что я говорю себе, то я должен согласиться: да, вы правы; не знаю, откуда вы такие прозорливые, но вы действительно увидели то, о чем я плачу. Я действительно лентяй, действительно нехороший человек; простите меня, пожалуйста; я постараюсь исправиться. Очень-очень постараюсь. Понимаете смысл?
И вот сначала у нас падает разум, сначала у нас в уме происходят неправильные вещи, поэтому у нас внутри убежденность, что мы-то на канон пошли, не то что те мои домашние, которые остались дома. В глубине души мы считаем себя избранным кругом настоящих рабов Христовых, не то что те, которые остались в миру. А это значит, что мы всего лишь напоказ плачем, чтобы показать Богу и себе самим: да, мы подлинные рабы Христовы. А если бы мы поистине покаялись, если бы в нас проникла мысль о том, что мы хуже всех, разве мы посмели бы на кого-нибудь голос поднять? Или обидеться на кого-нибудь? Да у нас бы и в мыслях такого не было. Если там нет, то и на деле нет.
И вот теперь с этой точки зрения посмотрите на наше внутреннее поведение. То есть для нас типичная ситуация: я обиделась. Что это, если перевести с языка психологии на язык аскетики? Что это значит? Я считаю себя лучше (ну, конечно, я не считаю себя лучше всех, все-таки среди нас нет уж совсем таких людей, они обычно в церковь не ходят, разве что случайно на каких-нибудь шикарных машинах заедут и припаркуются у ресторана – ресторан напротив, а они просто ошиблись). Нет, вы не считаете себя лучше всех, но «я лучше того, кто меня обидел». «Я недостоин такого обращения». То есть в глубине души у нас гордыня и тщеславие, которое уязвили, и мы обиделись. Понимаете?
Если мы смирились, нас обидеть нельзя. Как нельзя было обидеть Христа. Ему можно было сделать больно, но Его нельзя было обидеть или унизить. Невозможно. Это и раздражало тех, которые Его мучили. Он никак не хотел быть обиженным и униженным. Страдало Его тело, но поскольку в Нем не было гордыни, самолюбия, тщеславия – то, что обычно страдает у людей, у Него это не страдало. И это не могли понять люди, Его убивавшие.
Если мы, например, повышаем на кого-то голос, то о чем это говорит? Мы раздражаемся. Значит, мы хотим, чтобы было по-нашему. Просто мы хотим настоять на своей воле. Ну ладно, если это касается маленького ребенка, когда просто надо некоторые вещи остановить или внушить ребенку, чтобы он лучше понял. Бывает необходимость и повысить голос, и поднять интонацию, потому что ребенок не понимает, что мы ему говорим, он только по эмоциям воспринимает, довольны мы или недовольны. Поэтому сказать ему: лимпопусик, пожалуйста, никогда больше не подходи к розеточке, не надо трогать розеточку, а то мамочка очень плакать будет, – это бесполезно, потому что ребенок не понимает, что вы говорите. Он понимает, что мама с ним воркует. В следующий раз он снова полезет в розетку, чтобы мама снова поворковала. Ну приятно слышать, как мама лимпопусиком называет.
Поэтому если вы хотите, чтобы он понимал, интонацию приходится менять. И глазами тоже показывать, что вы не смеетесь сейчас с ним, а что этого делать нельзя. Категорически! А у нас как бывает, например? Ребенок ударил взрослого человека (скажем, бабушку ударил) – и все смеются. Бабушка улыбается, счастлива. Ну, он же ребенок, не больно же ударил. Внук ее ударил – как погладил все равно что. Мамочки все тоже радуются. А ребенок что делает? Раз всем весело, надо еще ударить, и еще… Все, довольные, хохочут. «Ну ладно, хватит, перестань. Что ты увлекся?» Но он понял, что это доставляет всеобщую радость. Что бы людей не повеселить? И он привыкает это делать. Когда люди сообразят, что это как-то уже и болезненно, да и как-то унизительно, что он бьет бабушку, и попытаются остановить, он будет протестовать, капризничать. И он прав: почему вам это нравилось, а теперь не нравится, что я такого сделал? Сами виноваты.
Так вот, иногда голос приходится повышать, для того чтобы дать маленькому ребенку понять, что вот это категорически нельзя делать. А во всех остальных случаях – это раздражение, когда мы хотим, чтобы было по-нашему, а по-нашему не получается. Это просто самомнение и своеволие. Вот представьте себе, например, Амвросия Оптинского кричащим на тех людей, которые к нему пришли. «Я тебе сколько раз говорил, что нельзя этого делать! Ты уже третий раз сюда приезжаешь! Ну что с тобой делать, честное слово?! Бить тебя, что ли? Ну сколько можно-то!» Представляете, да? Амвросий Оптинский так разговаривает… Кто бы к нему ходил? Он же не начальник.
Так вот, если мы хотим, чтобы наше сердце научилось не раздражаться, так и надо не раздражаться. Но прежде чем это сделать поступком – научиться не раздражаться, это должно быть в уме: что раздражаться – это плохо. Всегда. Безусловно. Точка. Нет оправдания раздражению. Если раздражился, – я плохо сделал. Если я осудил, – я сделал плохо. И когда в уме будет такая четкая установка, тогда и покаяние наше изменится. Но у нас же не так. Мы раздражились – и сразу начинаем: «Ну да, это, наверно, плохо, но – в других случаях плохо. В моем-то случае это не так плохо: куда мне было деваться, как не раздражиться?» Поэтому из-за того, что мы сначала падаем умом, мы потом падаем словом или делом.
Записала Елена Тимофеева
Нравится:
TweetМы в контакте
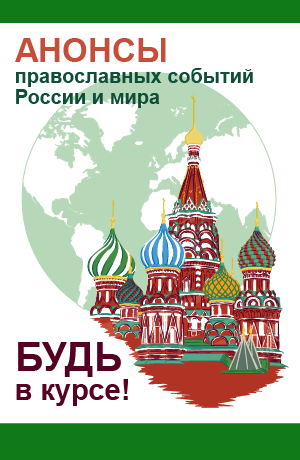
Последние телепередачи
-
 19 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
19 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 19 апреля
-
 19 апреля 2024 г.
«День ангела»
19 апреля 2024 г.
«День ангела»
День ангела. 19 апреля
-
 19 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
19 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 19 апреля. Преподобная Платонида Сирская
-
 19 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
19 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 19 апреля. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине
-
 19 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
19 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
Читаем Апостол. 19 апреля 2024
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







