Церковь и общество. Беседа с заслуженным художником России И.И. Глазуновым. Часть 1
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
– Сегодня наша программа в гостях у Ивана Ильича Глазунова. Конечно, не надо его представлять, человек он известный. Но придется, и нам удалось договориться с ним о встрече. Здравствуйте, Иван Ильич!
– Здравствуйте!
– Сразу здороваюсь с Вашей дочерью Марфой. Здравствуй!
– Здравствуйте!
– Очень приятно, что Вы тоже посетили нашу передачу «Церковь и общество» телеканала «Союз».
А сегодня мы будем разговаривать на несколько тем. Самая главная тема – деятельность Ивана Ильича. На мой взгляд, он выдающийся русский художник-живописец, заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств, а также профессор, заведующий кафедрой композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Иван Ильич, вопрос самый простой, конечно, он кажется банальным, но все-таки: Вы родились в творческой семье, Ваши родители – художники; это как-то повлияло на Вашу жизнь? Ведь Вы сделали головокружительную карьеру в сфере изобразительного искусства. Помогла ли Вам в этом семья? Может быть, детский вопрос: если бы не было семьи, стали бы Вы художником?
– Есть такая поговорка: природа на детях отдыхает.
– Я не верю этой поговорке.
– Не знаю, откуда она повелась, но на самом деле мне трудно представить, как бы могло быть иначе, потому что Господь посылает детей в семью – и они не могут изменить адрес своего появления. Поэтому я не знаю, как бывает по-другому. В детстве такой шум в голове, и кто может понять, куда надо ребенка вовремя отдать и чему учить? Конечно, среда, где ты живешь, где растешь, где видишь вот эту интенсивность жизни в искусстве, действует – я сейчас это понимаю. Но что я от этого получил – такой самоанализ я не могу провести точно. Родители отвели в художественную школу, родители показали то и то, вовремя открыли какую-то книгу (может быть, важную), может быть, вовремя сводили в Большой театр. Не знаю, как это рождается.
Но так я оказался в Суриковском институте, учился у отца в мастерской, потом уже после этого дороги назад не было. Но мне всегда это было интересно. Помню, родители делали постановку «Град Китеж» в Большом театре, я уже был более-менее в осознанном подростковом возрасте, меня подключили к изготовлению макета декораций. Думаю, что повлияла музыка, которая у нас звучала, – все время слушали музыку: это и Рахманинов, и Бетховен, и Сен-Санс. Наверно, и от этого рождается какое-то мироощущение. Не будь этого, не знаю, что и как я делал бы.
– Правильно я полагаю, что огромный мир, в котором Вы росли, не только сделал Вас человеком и художником, но и позволил Вам потом вариативно создавать собственные миры на его основе?
– Наверно. Бог знает, что чувствует ребенок в пять или семь лет, себя ведь уже плохо помнишь. Но когда идет первомайская демонстрация по унылому серому Калининскому проспекту, а дома звучит Мария Каллас или «Всенощное бдение» Рахманинова, иконы из родительского собрания мерцают (и ты из окна на демонстрацию смотришь), это какие-то разные полюса… Вероятно, во взрослую жизнь уже выносится какое-то особенное мироощущение, если в детстве происходит вот так. И люди, которые посещают дом, – это очень важно. Важно, на кого ты в детстве смотришь как на какой-то образец. Все это вместе, наверно, меня и сделало таким, какой я есть. Помню еще первую поездку на Русский Север, это был второй курс института – то есть я уже, в общем, был взрослым человеком. Но все равно это надо формировать, и вот думаю, что Архангельская и Вологодская области тоже повлияли – ты это впитываешь, это тебя делает.
– Иван Ильич, у Вас четверо детей. Это немало. Хотя и немного, как теперь говорят.
– Немного, да.
– Достаточно, как говорится. Но, в принципе, Вы готовы, если можно так выразиться, уготовить им подобный мир? Или они могут пойти своими путями? Они ведь живут в таком мире, уходить из которого в какой-то другой как-то даже немножко абсурдно. Мы потом и Марфу спросим, как она это ощущает.
– Я надеюсь, что наш мир совпадает с тем миром, который есть у каждого из них. Конечно, семья и дом – это что-то очень важное. Я против того, чтобы детей, как только они подрастают, куда-то отправлять.
– Спихнуть…
– Хотя в этом, наверно, тоже есть какая-то правда: надо учиться выживать, учиться самостоятельности. Но не знаю, у меня не так с ними, мне кажется очень дорогим этот хрупкий мир «родители – дети», дети же растут, и мы растем. И встает вопрос, как быть дальше – не только вопрос, где учиться и где потом работать, но и как сохранить теплые, дружеские семейные отношения. Хочется дать им побольше каких-то праздников, чтобы они тепло вспоминали отчий дом, свое детство. Сейчас мир очень агрессивный, все время надо делать прививки против этого. Не хочу пенять на школы, у нас прекрасная была школа, где учились старшие девочки. Но есть реальность, которая отовсюду проникает. Прививкой был фольклорный ансамбль «Веретенце», куда мы их отдали. Этот ансамбль есть и сейчас, процветает, слава Богу. Это была прививка против попсовой цивилизации – фольклор и все, что с этим связано: песни и так далее; там тоже целый мир какого-то общения. Думаю, они вынесли что-то оттуда.
– Тогда задам вопрос не только Вам, но и Вашей соседке. Марфа Ивановна, Вы хотите стать художником?
– Да.
– Таким же, как папа, или другим?
– Ну, я сейчас думаю.
– Вы хотите просто рисовать или хотите писать большие полотна? Или, может быть, Вы хотите быть графиком?
– Рисовать.
– Вам нравится это?
– Да.
– А Вы где-то занимаетесь?
– Нет.
– То есть Вы самостоятельно рисуете?
– Да.
(Окончание диалога с Марфой.)
– Как так может быть? У таких мощных известных преподавателей ребенок нигде не учится.
– Пока дома рисует. Ей еще рано, мне кажется. Вообще надо лет, наверно, с десяти начинать.
– Интересная мысль.
– Я так думаю. Раньше можно было отдать куда угодно, нанять любого педагога. Все дети рисуют хорошо – у них есть какое-то свое видение. Потом лет в десять только можно решать – либо заняться профессиональным образованием, либо оставить в детском творчестве. Я вижу, что у Марфы есть задатки; вероятно, будем дальше это продолжать. И «Веретенце» тоже, и балет, и другое. Думаю, это важно для общего образования. Девочка должна быть прямая, девочка должна знать какие-то грациозные движения. А рисование – это уже серьезная работа; вероятно, Марфа этим займется чуть позже.
– Иван Ильич, а Вы детям никогда не преподавали? Ведь в академии Вы преподаете людям, уже достигшим зрелого возраста, они старше 17-18 лет. Это уже взрослые люди, имеющие гражданские права. В основном приходят люди подготовленные? Или мозг настолько пуст, что можно класть туда все что угодно? Какое у Вас ощущение от поколения, которое приходит к Вам сегодня?
– Ну, всегда возникает такая поколенческая тема, что все раньше было лучше. Я не очень это люблю, рановато нам вести такие «пенсионные» разговоры. Всегда есть люди разные. К нам попадают в основном после училищ. Иногда бывает чудо, что поступает талантливый человек сразу после общеобразовательной школы. Но у нас поступают под номерами, то есть полное инкогнито для преподавателей. Мы смотрим на талант, на потенциальные возможности человека. Хотя если есть какая-то подготовка, это очень приветствуется. Но все равно первый курс – такой реанимационный после разных навыков, полученных вне академии. А люди… Что же, сейчас мало читают – это реальность такая, говорят во всех институтах. Это не потому, что раньше люди были лучше или хуже, просто сейчас по-другому стало. Они меньше знают, мне кажется, меньше интересуются историей или историей искусства.
Вот я помню МСХШ, где я учился, – там был отдельный предмет: вкачивали знания об античности, о домонгольской Руси и так далее, на это отводилось очень много часов. А сейчас приходит человек – «белый лист». Девушка из Ярославля ни разу не была в тамошней церкви Илии Пророка. Спрашиваю: «Как же так? Ведь ты мимо ходила столько раз!» – «Ну, я видела, туда на автобусах иностранцев привозят…» Говорю: «Ну вот, едут же отовсюду смотреть. А ты что же?» – «Я зайду в следующий раз».
– А московские многие никогда не бывали в Московском Кремле!
– Да, так тоже бывает. Значит, надо что делать? Надо на первых-третьих курсах осуществлять насильственное, как я говорю, вкачивание культуры. Художник не может не развиваться в этом плане, потому что культурная прививка в наше время, может быть, важнее всего, она дает понимание – кто я, где я, что это за стены и башни рядом. Это надо знать – тогда будет совсем другое мировоззрение. И это будет проявляться в искусстве – и в картинах, и в чем угодно. Так что я пеняю на наше время, что молодые люди просто мало знают.
– Вот Вы – профессор, заведующий кафедрой композиции. Есть ли кафедры композиции в других наших высших учебных заведениях, связанных с живописью? Мне кажется, что есть какие-то отделения или что-то в этом роде. Я прочитал у Вас: «Композиция – неотъемлемая часть всякого творческого изобразительного процесса, суть которого сводится к умению сочинять». Почему у вас в академии создана такая кафедра? И почему Вы ею заведуете?
– Это не схоластическая наука, а довольно-таки реально применимое в жизнедеятельности студента и молодого художника умение профессионально, грамотно организовывать пространство. Причем это распространяется не только на сочинение картины – двадцать фигур или одна фигура. Композиция присутствует и в орнаменте, и в архитектуре, во всем есть композиция. Это некий Богом данный камертон баланса разных золотых сечений. И нужно развивать композиционное чувство – не всякое слово в строку пишется. Этому надо учиться на хороших образцах, самому учиться, отталкиваясь от разных произведений от античности до нашего времени, учиться компоновать массы, фигуры, формы. Это сложная вещь, которая ближе к таланту, а не к навыку. Если у художника-композициониста есть рвение и усердие к созданию каких-то сложносочиненных вещей, то тут кафедра композиции очень нужна.
Мы изучаем, например, пятно, перегораживание (такие профессиональные моменты, которые, может быть, не всегда нужно объяснять обычным зрителям) – как правильно перегородить две фигуры, чтобы одна не вклеилась в другую. Операторы, наверно, знают то же самое. Есть тому примеры. У нас академия на позициях императорской академии, у нас все рассматривается в рамках европейской школы. Поэтому на основе знаний истории искусств, например, композиции в произведениях эпохи Ренессанса, в русской иконе. Законы везде одни, все это должен человек как-то впитать – и рождаются хорошие произведения. У кого-то это более упрощенно работает, но всегда это должно быть профессионально. Наша главная задача – чтобы было профессионально.
– От всего того, что Вы сказали, у меня возникло ощущение (оно и раньше было, но теперь только укрепилось), что предмет «композиция» должен преподаваться во многих технических и гуманитарных вузах. Потому что тут дело даже не в навыке; у человека должен быть воспитан некий вкус, некое видение мира, умение расставить все на свои места, и не только на художественном полотне, но и в реальной жизни – в социологии, в отношениях между людьми, в психологии, даже в историческом пространстве.
– Конечно, это дает гармоничность какую-то.
– Очень интересный предмет, на мой взгляд. Потому что отсутствие такого вкуса и такого воспитания, образования в этой сфере приводит к тому, что люди мельчают и все становится упрощенным, очень грубым.
– Грубая сувенирная промышленность такая – в плохом смысле. Даже в поминаемом нами Стамбуле – я хотел купить какую-то майолику турецкую…
– На знаменитом стамбульском рынке.
– Да-да. И всё сувениры, сувениры… Но вдруг прилавок, на котором видишь вещь и думаешь: «О, вот она сделана как старая». Выходит турок, говорит: «О, русский! Я знаю Репина, я бывал в Москве». И так далее. Ты видишь, что есть какая-то родственность в мироощущениях. И вещи вот эти настолько отличаются от массовой продукции, но этого становится все меньше вообще в мировом процессе производства; композиционное чувство куда-то уходит. Но когда человек чувствует свою связь с традицией, со своей цивилизацией, культурой, то это чувство может родить какой-то новый подъем и виток.
– Я хочу снова задать вопрос Марфе Ивановне. Конечно, слово «композиция» сложное, но вот сейчас мы разговаривали на эту тему. Когда Вы рисуете, Вы ощущаете, что нужно это композиционно правильно расположить?
– Да.
– А что Вы думаете по поводу того, что такое композиция?
– Я думаю, что композиция – это как правильно расставить то, что я рисую.
– Вы рисуете с натуры или какую-то фантазию? Вы можете нарисовать то, что не связано с реальными предметами, а есть в Вашем воображении?
– Да.
– И когда Вы решаете, что на каком месте изобразить, то как Вы принимаете решение?
– Просто думаю, как лучше будет, и рисую.
(Окончание диалога с Марфой.)
– Как это лучше будет, это и должно преподаваться профессионально. Сейчас появилось такое понятие, когда у человека не то что нет вкуса, у него отрицательный вкус.
– Считается, что это тоже хорошо.
– Но иногда нравится такое, что диву даешься, как это можно вообще дома повесить. Но если у человека уже сложившееся представление, то невозможно ему что-то объяснить.
– У вас в академии существует мастерская историко-религиозной живописи, которой Вы тоже руководите. А что это такое?
– У нас после 3-го курса студенты разделяются на три мастерские – это портрет, пейзаж и историко-религиозная. Вообще-то это условное разделение, конечно, для защиты диплома: пейзажист защищает с пейзажем, портретист – с каким-то масштабным портретом, а вот историко-религиозный живописец должен защититься со сложносочиненной многофигурной композицией. Может быть, в наше время это самый сложный жанр. Ни в коем случае не умаляю ни портрет, ни пейзаж, но в историко-религиозной живописи гораздо больше работы. Если мы хотим, чтобы это было сделано в традициях какой-то высокой школы, академии, то ставим очень высокую планку. На диплом дается год: надо создать эскиз, собрать материал, нарисовать с натуры фигуры, написать этюды, соблюсти состояние природы, если действие в картине происходит на открытом воздухе, или создать глубину интерьера с перспективой. Это сложные вещи.
Можно все делать не выходя из дома – с каких-то айпэдов, фотографий, как они сейчас любят. Но это же все видно сразу. Писать картину по живому, с этюдами – это другое. Как Михаил Васильевич Нестеров писал жене о том, что прошло лето, а он не успел написать траву для картины «На Руси» и придется ему заканчивать картину через год. Он был уже маститым; есть его фотография, где он сидит с длинной кисточкой, изучает, как уложить правильно траву в картине. Это же очень дорогого стоит, и вот этому научить очень сложно. Сейчас много фотографий, можно все это скомпилировать, но не будет того ощущения, того профессионализма и того отсыла к высоким образцам искусства.
– А почему Вы добавляете в название слово «религиозное»?
– Потому что очень часто у нас пишут евангельские и ветхозаветные сюжеты или берут какие-то темы, с ними связанные. Вообще это тоже условно, ведь религиозность человека сквозит в разных проявлениях. Необязательно напрямую изображать святых, рай, ад или иллюстрировать евангельскую историю, но по картине любого художника можно сказать, имеет он веру или нет.
– Например, православный он или нет.
– А вот если такой лобовой подход, что раз я православный, то на моих картинах все с нимбами, луч с неба высвечивает главного героя и обязательно сонм или несколько святых, то я против такого подхода. Религиозное чувство очень тонкое, оно должно быть и в пейзаже; по лопухам можно сказать, человек религиозен или нет. Если мы будем под религиозной живописью понимать только иллюстрирующие Евангелие сюжеты, это будет не совсем правильно. Хотя, естественно, изображение Спасителя и каких-то евангельских сцен очень важно. И часто студенты пишут что-то из Страстей Христовых, из притч и чудес. Вот сейчас девочка-дипломница будет защищаться композицией «Притча о десяти девах». То есть иллюстрируется известная притча буквально в виде дев со светильниками горящими и потухшими. И мы это приветствуем.
– Считаете ли Вы, что только реалистическое искусство может быть проводником Духа?
– Как сотрудник нашей академии, человек, несущий бремя этой школы, я считаю, что молодой человек может развиться только внутри школы. Сейчас много всяких студий – учат туалетной бумагой обклеивать табуретки, делать какие-то меховые чашки… Вот этот весь бред (я извиняюсь и не хочу обидеть тех, кто, может быть, этим пытается серьезно заниматься) вне школы, и это непрофессиональное занятие какими-то поделками. Конечно, сейчас много говорят о современном искусстве.
Но ведь наши выпускники тоже создают современное искусство, они современные художники, дипломированные специалисты. И в этом конфликте наших дней человек может столкнуться со стеной непонимания, с другой действительностью. Но бремя реалистической школы – это единственное, что делает человека профессионалом. Он может потом работать в разных сферах – и в театре, и в кино, и живописью заниматься. Но школа – это крылья, которые дают человеку возможность быть многогранным, разносторонним.
– Замечательная мысль. На ней мы и завершим нашу беседу. Надеюсь, что мы ее продолжим, потому что хочется углубиться в более серьезные темы, связанные с Вашей работой в живописи: исторической живописью и так далее.
(Продолжение следует.)
Ведущий Константин Ковалев-Случевский, писатель
Записал Игорь Лунёв
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Воскресенье, 21 апреля: 03:00
- Воскресенье, 21 апреля: 14:05
- Четверг, 25 апреля: 09:05
Мы в контакте
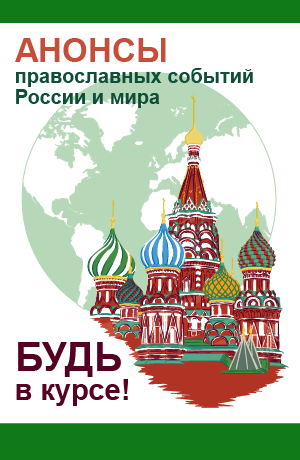
Последние телепередачи
-
 21 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
21 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
Благая часть. 21 апреля 2024
-
 20 апреля 2024 г.
«Таинства Церкви» (Москва)
20 апреля 2024 г.
«Таинства Церкви» (Москва)
Таинства Церкви. Беседа с протоиереем Владимиром Волгиным
-
 20 апреля 2024 г.
«Мысли о прекрасном» (Москва)
20 апреля 2024 г.
«Мысли о прекрасном» (Москва)
Мысли о прекрасном. Заведующий музеем художественного освоения Арктики Иван Катышев. Часть 3
-
 20 апреля 2024 г.
«Канон» (Москва)
20 апреля 2024 г.
«Канон» (Москва)
Канон. Оперная певица Светлана Феодулова. Часть 2
-
 20 апреля 2024 г.
«Благие вести» (Краснодар)
20 апреля 2024 г.
«Благие вести» (Краснодар)
Благие вести. 20 апреля 2024
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …








