«Культура» с Николаем Бурляевым. О музыке
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о музыке. Лично для меня музыка есть в двух разнонаправленных ипостасях: подлинная музыка – это Бах, Рахманинов, Свиридов, Глинка, Чайковский; и музыка, которая является не музыкой, а шоу-бизнесом. В море вот этой музыки и живет наша страна и весь мир. Шоу-бизнесу рукоплещут многотысячные стадионы. Эта музыка, которую я не считаю музыкой, превращает нас в стадо; ей внимают и расслабляются под примитивные два-три аккорда (три – это еще очень хорошо, а так один-два).
Придешь домой, пощелкаешь телеканалы и увидишь, что из ста телеканалов (а сейчас их больше ста) только телеканал «Культура» иногда представляет подлинную музыку. И задумываешься: а правильной ли дорогой мы идем, товарищи? Достойно ли это великой тысячелетней державы с ее культурой, с ее духовностью? В какой атмосфере растут наши дети и внуки?
Это поддерживается практически всеми телеканалами. Это различные ток-шоу, в которые уже вовлекаются и дети, и им, детям, взрослые дяди рукоплещут. Допустим, девочка, которая в десять лет вихляет бедрами, как певица шоу-бизнеса, и мальчики, поющие на английском, забывающие русскую речь. И им говорят: «Ты супер! Ты самый лучший, ты гениальный», поднимают на пьедестал в этом младенческом возрасте. (Я знаю, что это такое – с младенчества стать звездой: когда мне было 14 лет, я прославился на весь мир, и мне критики говорили о том, что я гений, – как я уцелел, не знаю.) И вот этим детям говорят: «Ты гений». А куда им дальше двигаться, если они уже сейчас гении?
Итак, мы сейчас поговорим о музыке с тем, кто имеет право говорить о музыке, – с одним из самых выдающихся дирижеров современности, имя которого, как бриллиант, сверкает во многих афишах лучших, престижнейших залов мира – в Америке, Франции, Германии, Австрии, Италии. Человек, который много лет руководит оркестром. И, может быть, благодаря его руководству Большой симфонический оркестр получил имя Петра Ильича Чайковского. Я вас приглашаю на встречу с удивительным мастером музыки, отдавшим этому всю жизнь, художественным руководителем и главным дирижером Большого симфонического оркестра имени Чайковского, народным артистом СССР и России, профессором, членом Патриаршего совета по культуре Владимиром Ивановичем Федосеевым.
– Не могу передать чувства, которые я сейчас испытываю, от радости, что я Вас опять вижу, что мы можем в полном покое, в окружении лиц гениев русской культуры поговорить о музыке. Вы первый, кого мы пригласили в нашу студию из тех, кто имеет прямое отношение к музыке. Тому, чем Вы занимаетесь, дирижированию, можно научить или же это все-таки дар от Бога, врожденное?
– У нас в стране состояние музыкальной культуры – вообще культуры – таково, что мы не приобретаем что-то новое и не сохраняем старое, к сожалению. Дирижерская профессия считается профессией взрослых людей, хотя можно и в семь лет что-то начать дирижировать…
– А Вы же, кстати, мальчиком бежали в военные годы за оркестрами и дирижировали.
– Я бегал, да. Вот с этого-то и началось мое дирижерское искушение, так можно назвать. Но потом я познал: сколько бы я ни учился, дирижирование – загадочная профессия. И время, контакты с гениями, с людьми, которые уже в мире искусства обозначили себя, – это дает развитие. Дирижер не может стоять на месте, даже если он приобретает все технические навыки дирижирования. Это, так сказать, техника, которая дальше может не дать какие-то импульсы.
Вообще музыка – это загадка; говорят, там, где кончается слово, начинается музыка. Значит, если уже в словах нет никакой идеи, то музыка может досказать любую идею. Я, когда смотрю на эти портреты, каждому бы порекомендовал взять хотя бы миллионную частичку от каждого, чтобы понять людей, которые сотворили эту культуру. И мы живем, мы гордимся. Конечно, время берет свое, и часть культуры исчезает, мы теряем и целые школы, много исчезает в процессе всего этого мирового шума, гама, который еще называется культурой. Но на самом деле особенно наши радио и телевидение (я не говорю про все телевидение) очень вредно действуют на наши сердца, на нашу культуру.
– Вы сейчас затронули два понятия: «слово» и «музыка». Я режиссер, Вы дирижер – близкие профессии, мы с Вами руководим большими коллективами. Прав я или обманываюсь в моем ощущении: лично для меня, как для актера и режиссера, истина в одной новозаветной фразе, объясняющей суть творчества актера, режиссера, писателя и, думаю, музыканта. А фраза это такая: «Сколько, например, различных слов в мире – и ни одного из них нет без значения». Можете ли Вы эту же фразу приложить к Вашей профессии: много в мире звуков – и ни одного нет без значения?
– Да, но разгадать значение этих звуков я до сих пор пытаюсь. Сколько я живу, с годами, со временем, в общении со своими людьми в России, с другими людьми постоянно открываю для себя эти значения. Буквально сегодня я репетировал Бетховена. Этот композитор для меня не является ни немцем, ни русским, он – от Бога.
– А Бах? Тоже от Бога?
– От Бога. Поэтому над значениями звуков я начинаю задумываться: а что он хочет сказать вот в этой закорючке, в этом посыле буквально одной нотой? И приходится разгадывать. Я не разгадал это ни три года тому назад, ни пять лет назад, а вот сейчас начинаю разгадывать что-то. И мне становится где-то и стыдно за себя, но в то же время я понимаю, что моя профессия – как бы пожизненная: пока стоишь за пультом, ты можешь еще что-то сказать, а когда уже не сможешь стоять, то заканчивай. Я не мечтал об этой профессии никогда, я мечтал быть пастухом в детстве.
– Но Ваши родители хотели, чтобы Вы были музыкантом?
– Хотели.
– Ваш отец играл вроде бы на баяне?
– Да, он и на баяне играл.
– А мама пела в хоре?
– Мама пела на клиросе, в церковном хоре. Они мечтали, чтобы я стал музыкантом. Но сама трагическая ситуация жизни мне помогла, то ли это действительно Господь помог, когда я жил в Ленинграде в блокаде и видел этот баян, стоящий на определенном пьедестале. И отец мечтал, чтобы я на нем начал играть, но война мне не дала такой возможности. И вот этот баян с нами был, когда уже после блокады нас отвезли в другой город. И на первой станции немцы разбили наш состав, я не знаю, как мы выжили. Горели костры, нас пригласили осмотреть наши вещи, и этот баян стоял на пепелище нетронутый. Он стоял и как бы говорил: «Возьми меня». И я его взял и вот стал с тех пор учиться. Этот баян как бы меня и привел в то, чем я сейчас занимаюсь, в музыкальное искусство.
– Но когда Вы поступили в музыкальное училище, Вы же не знали нотной грамоты?
– Не знал.
– А как же Вас взяли, кто Вас взял?
– У меня всегда был хороший слух, взял меня педагог, который увидел во мне способности к игре на баяне, потому что я играл, но ноты не знал, я на слух перенимал песни. Так же, как в деревнях, ведь поют любую незнакомую песню, изучают ее без нот, просто по слуху. Вот и я так. Но мне сказали: ты должен знать нотную грамоту, иначе дальше не пройдешь. Я, конечно, стал изучать, мой папа брал педагогов, чтобы меня учили. И вот так я попал в училище имени Мусоргского в Ленинграде, быстро освоил грамоту, с этого началось все.
– Вам же в жизни очень везло, у Вас были прекрасные педагоги – Л. Гинзбург и Е. Мравинский. Так?
– Да-да, Гинзбург – это немецкая школа. У нас в России как таковой дирижерской школы не было, она пришла из Германии.
– А Мравинский – тоже ученик этой школы?
– Да, он тоже ученик этой же школы, конечно. Но он учился до меня, немножко пораньше, я не знаю, у каких педагогов, но он меня приметил, и я присутствовал на его уроках, на его репетициях; мне было достаточно это видеть, ощутить. Он научил меня, как мне надо дирижировать направо и налево, он мне это доверил, и я, конечно, безмерно благодарен, что у меня в жизни случилась эта встреча. А Гинзбург уже меня профессионально учил, но сам Гинзбург не был большим дирижером, он скорее был прекрасным педагогом, он видел в другом человеке возможность или невозможность к этому. Поэтому он всегда мне говорил, что этой профессии можно учиться много и долго, но ничего не получить. Какая-то внутренняя сила позволяет быть дирижером. Дирижер ведь должен иметь влияние на музыкантов и авторитет. Мой путь был очень трудный– я молодой был, авторитета не имел.
– Сколько Вы руководите оркестром имени Чайковского?
– Сорок два года.
– По-моему, Вы счастливый человек, ибо избрали такую профессию: музыка, как считают Ваши коллеги из разных искусств (кино, театра, литературы), – самое приближенное к Господу Богу искусство.
– Правильно, я согласен с вами. Когда рождается ребенок, уже у него в венах течет какая-то культура, только ее нужно почувствовать, найти, помочь ему, и он обретет ее.
– Вы дирижировали самыми крупными оркестрами мира. Вы по природе диктатор или друг, учитель?
– Я не диктатор абсолютно.
– А как Вы удерживаете эту массу в сто человек с разными характерами?
– У меня было много встреч с оркестром, ведь оркестр при первой встрече не принимает дирижера как друга.
– А когда Вы пришли, Вас не приняли?
– Конечно, нет. В оркестре были великие музыканты того, советского времени, авторитетные, с большим именем, а я-то пришел туда из народного оркестра, из фольклора. И эти люди считали, что народное искусство не стоит признания или поддержки. «Играйте себе на балалайках и пойте русские песни» – такое было пренебрежение в ту пору. Мне было очень трудно это все доказывать, но нашлись люди, помогли мне, без их помощи я бы не смог. Такой был председатель Гостелерадио, даже не музыкант – Сергей Георгиевич Лапин, который стал мне доверять. Я не знал, то ли это посыл с небес, но мне было оказано доверие. Но меня били сильно, вплоть до того, что я готов был отказаться от всего этого, уехать с женой в провинцию, лишь бы, так сказать, не бороться за это место.
– Вы сейчас как-то вполголоса заметили, что пришли из народной музыки, к которой профессиональные музыканты относились тогда критически…
– Пренебрежительно.
– Так же и к писателям нашим – В. Распутину, В. Белову, В. Астафьеву…
– «Деревенщики», так называли их.
– Да. Вы говорили, что так было, но, к большому сожалению, и сейчас отношение именно такое к русской теме в нашем искусстве. Вы это чувствуете сейчас?
– Конечно, чувствую.
– Но ведь Вы же ездите по всему миру…
– А я там не чувствую это, чувствую в своей стране больше, чем там.
– В чем это проявляется?
– Я Вам скажу, что меня приняли в России через Запад, как ни странно. Это факт: меня скорее увидел Запад и доверился мне, я стал руководителем Венского оркестра, прежде чем тут обрести какое-то влияние и внимание. Именно потому, что я шел от народного искусства, я пятнадцать лет играл народное искусство и поддерживал его и был на виду в этом амплуа. Поэтому те, кто меня не пускал в эту систему, делали всё, чтоб меня закрыть. И вот нашлись люди, помогли… Свиридов – это мой человек, у него я учился всю жизнь, я его благословляю и молюсь за него. Второй – Мравинский. И даже из ЦК партии был такой – Зимянин, политикой занимался, тоже что-то увидел во мне. Тот же Тихон Николаевич Хренников проявил ко мне такое боязненное отношение, но он боялся других. Вот эти четыре человека. Так что я шел через такие препоны, которые, может быть, меня и укрепили даже.
– Сейчас Вам легче стало?
– Конечно, легче. Но я знаю, что я неугоден кое-кому. Но уже сорок два года руководства, получения всяческих премий, записей, и конкурсы я выигрывал (и Чайковского, и пластиночные), много-много… Поэтому я уже не обращаю внимание на это. Но мне пришлось прожить эту большую травму, и я выдержал с помощью, с поддержкой близкого человека – моей жены. Может быть, без нее я бы и не выдержал, честно говоря. У меня было желание уехать и не бороться: с мельницами бороться бесполезно.
– Здесь я Вас поддерживаю, Вы выбрали (или Вас выбрали) прекрасную жену – Ольгу Ивановну Доброхотову, человека, понимающего, что такое музыка. Вы переиграли если не всю серьезную музыку, то огромную ее часть; к разным композиторам Вы относитесь по-разному, я знаю. Одних Вы любите играть – Свиридова, Рахманинова, других меньше играете – таких, как Прокофьев, допустим (я многого не слышал в Вашем исполнении), Вы были практически первооткрывателем многих произведений Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна и многих-многих других. Вы записали, по-моему, практически все произведения Шостаковича, да?
– Да, все симфонии Шостаковича. Я был в Китае, и в гостиницу приходит человек: «Я Вас пять часов жду». А я спрашиваю: «Что Вы ждете от меня?» И этот китаец говорит: «Я принес чемодан Ваших записей». Я уже даже забыл, что они есть. И я подписывал больше часа эти записи.
– Ваши отношения с оркестром? Мне это очень интересно. Я, как режиссер, вижу, как другие режиссеры работают со своими группами: как диктаторы, топают ножкой, требовательно. К Вам приходит утром сто человек со своими проблемами: дети больные, жена ушла, еще что-то… Как Вы это все гармонизируете? Чем?
– Любовью. Я всегда вижу талантливого человека, мне так интуиция моя подсказывает, и начинаю к нему хорошо относиться, даже если у него никакого опыта нет. Ведь мы приглашаем молодых людей, меняется поколение. Я приглашаю, слушаю его, определяю его талант. Но опыта, конечно, у него никакого нет, потому что оркестровая игра – это особое дело, это чувство локтя, ведь должен сложиться ансамбль. И я, даже если он не прав, говорю, что очень хорошо. Вот такая у меня система, что я начинаю хвалить музыканта, который не прав, но говорю: «Вы знаете, вот здесь бы немножко так сделать…»
Я приехал в итальянский оркестр первый раз, а итальянцы никакой дисциплины не принимают. Я смотрю – они на репетиции и пьют, и едят. И вот я начал постепенно их хвалить: вы талантливые, очень красиво все делаете, но только нужно вам заниматься другим делом. Вот такой мой метод. Есть, конечно, диктат, тот же Мравинский был диктатор, его боялись. Он палочку бросал, бюллетени брали до того, как встретятся на репетиции. В своей работе он был настолько принципиальный, что это тоже похвала. Много было дирижеров-диктаторов, тот же Караян. Но есть другие, тот же Клайбер, никакой не диктатор, а мне такие образы навсегда запоминаются. Поэтому я с любовью узнаю, как музыкант живет, как его семья, кто его любовь и все такое.
– Вы работаете не только руками, но и словом, сердцем?
– Да, словом, сердцем – стараюсь. Допустим, у нас в оркестре есть семьи, которые уже сложились в оркестре, и я как бы помогаю в этом даже. Если я вижу, что человек влюблен, что не просто случайная связь, а именно так уже, навеки…И вот у меня в оркестре уже много таких семейных пар. И это очень мне помогает.
– Вы открыли некоторые новые произведения Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна, но Вы открыли и еще одного нового для России композитора – царя Ивана Грозного. По-моему, никто прежде не играл симфоническими оркестрами его музыку, его стихиры. И Вы это сделали с гениальным русским артистом, нашим другом Алексеем Петренко. Почему Вы взялись за эту вещь?
– Во-первых, я видел Алексея Васильевича как гениального актера.
– То есть Вы взяли это под него. Если бы не было Петренко, Вы бы не стали?
– Нет, не стал бы. Мало того, я переделал это сочинение; там три певца поют, а я увидел, что Петренко может все сам петь, – и когда увидел, что он обладает и этим, и этим, я его сразу повез в Париж. В Париже мы давали «Ивана Грозного» Прокофьева в то время. Там ведь текст не совсем хороший про Наполеона, и я боялся, что французы начнут возражать. На самом деле все было прекрасно, пел он на русском языке, и все сошлось замечательно, и французы всё понимали, настолько было ясно, что он делает и что он поет.
– Стихиры Ивана Грозного Вы играли за границей?
– Да, играли.
– Там же, в Париже?
– Да.
– И в Австрии?
– И в Австрии.
– Как Вам музыка Ивана Грозного? Я не музыкант, я не понимаю, каков он как композитор…
– У него одноголосная музыка, то есть одна линия идет и поется на русский распев. Ясно, что эта музыка не французская, не немецкая, а русская. Этот распев он распевает как русский человек, поет как народную песню. Поэтому это было очень легко – я давно познал русскую народную песню. И Петренко это делал замечательно.
– А произведения Ивана Грозного имеют ценность для нашей музыкальной культуры?
– Конечно. Это как «Бессмертный полк», вот сейчас мы видели это гениальное событие. Кто это придумал? Я бы наградил всеми медалями этого человека: это привело наших людей в такие глубокие патриотические чувства. Вот так же я делал и с Петренко, в котором увидел, что он не просто актер, а великий русский актер, который может передать все чувства всех времен и донести до нас.
– А какова реакция французов, австрийцев на то, что они услышали в произведении Ивана Грозного? Ведь им же преподносят Ивана Грозного как чудовище, монстра.
– Там этого не было. За границей преклоняются перед нашей русской музыкой. А когда было объявлено, что это стихира Ивана Грозного, они, конечно, сразу с большим интересом слушали. Потом спрашивали, чья интерпретация, кто это сделал, на партитуру положил. Все это очень интересует. Но, к сожалению, самого материала не так много. Я его добыл в центральной библиотеке, где-то за границей тоже нашел (в Вене), поэтому это было сложно. Но то, что Иван Грозный был композитор и писал, – факт, и я это доказал.
– Я не знаю, отдаете ли Вы себе отчет, что Вы фактом представления этой музыки серьезно пошатнули, так сказать, отношение к Ивану Грозному как к чудовищу в западном мире, они теперь понимают, что он еще и писал музыку, – это очень важно. А я лично Вам очень благодарен за счастье нашей совместной работы, когда мы с Вами решили положить «Бога» Державина на музыку. До Вас я это исполнял с оркестром Анатолия Полетаева, и он услышал «Бога» под музыку С. Рахманинова, и мы это делали. Вы же, когда прослушали, услышали, что здесь ближе Скрябин. Почему Вы взялись за это?
– Само стихотворение, когда я его прочитал, вызвало во мне такие чувства... Я обязан был показать это всем людям. Во-первых, оно очень редко исполняется, поэтому мне сразу пришло желание найти соответствие этому сочинению в музыке, и я нашел Скрябина: для меня не было проблемы сразу определить, где это стихотворение должно находиться, в каком музыкальном окружении.
– Я помню, как все это выглядело: мы с Вами выступали в трудных условиях – в Ставрополе, на площади; там были тысячи людей. У меня такой практики не было – я думал: люди будут ходить – как там петь, играть, читать? И когда я увидел эту огромную площадь, Ваш оркестр в свете софитов (шла прямая трансляция), – этот подъем я надолго запомнил. Вы помните тот вечер?
– Конечно. Замечательный вечер. Я познакомился там с местным батюшкой. Это было незабываемое событие для оркестра – помню до сих пор.
– А Вы знаете, что утром после концерта ко мне подошли чуть ли не все ваши оркестранты и благодарили, что у них был такой вечер? Как мне это было приятно: люди, объездившие весь мир, привыкшие к рукоплесканиям, вдруг благодарят, что было это чудо Державина, Скрябина…
– У нас особый оркестр – очень чувствительный с точки зрения понимания всей культуры и своих достоинств, ведь я пытаюсь внушать: вы не просто музыканты, а люди этой страны, которые должны держаться на самой высоте нашей культуры. Они понимают. Ведь я их воспитываю, хотя я сам не очень уж старый, но беру молодежь и пытаюсь их воспитать, объединить какую-то пару и наслаждаться их прекрасной жизнью, любовью. Эти задачи у меня тоже существуют. Это такая большая семья по мыслям, по этике, по отношению к тому, где мы работаем, за что и ради чего работаем. В наших руках очень большая сила нашего искусства, в том числе воспитательная.
– Уделяете ли Вы время педагогике, готовите ли дирижеров-преемников?
– Да, готовлю. В Гнесинском институте у меня класс, я делаю классы в Венской консерватории, ищу молодых дирижеров. Но, как правило, молодой дирижер для меня еще под большим вопросом – что из него будет? Но все-таки на мои репетиции приходит очень много всяких молодых людей, чтобы посмотреть сам процесс.
На моих репетициях специально для детей они видят не детские сочинения, а серьезные. Потом я с ними встречаюсь, и они задают массу вопросов: а как это, а почему это? Это началось в Париже, когда на мои репетиции приходило много маленьких детишек, с мамой, папой. И я подумал: а почему же мы не можем такое сделать? И после этого я перенес парижский принцип в Москву. Оказалось, все это очень просто, только надо добыть автобус, чтобы привезти и увезти детей, и денег не надо было платить.
Вы правильно сказали, что сейчас на нашем телевидении происходит процесс поднимания детей и обзывания их «звездами» (слово-то нехорошее). К сожалению, мне кажется, это даже вредно: когда ребенок в пять-шесть лет решает, что он звезда, ему очень трудно стать звездой в будущем. Никто же не знает, как пойдет его жизнь, все очень обманчиво – и потом он может об этом очень сильно сожалеть.
Конечно, Моцарт в семь лет написал симфонию, но это же Моцарт. Когда в Вене стали изучать, сколько он написал сочинений и за какое время, то это не совпало: человек не может просто физически за такое время написать столько сочинений. Значит, его рукой, его головой руководил Господь. Поэтому мне кажется, очень опасно так преподавать детей: что все они звезды, лучше всех. Это внедряется в душу, и неизвестно, кем станет такой ребенок: лучше или хуже всех; или ни то, ни другое.
– Когда я прихожу на Ваши концерты, то бывает такое ощущение, что вроде бы Вы не так много работаете руками, но Вы как антенна, принимающая от Господа Бога, – через Вас что-то идет в этот миг к оркестру, и они идут за Вами. Часто ли бывают такие мгновения Вашего контакта с тем миром, музыкой и оркестром, когда он Вас понимает?
– Это зависит от обстоятельств, от публики, от зала, от акустики, но, в принципе, это происходит (у меня даже есть своя публика, что очень важно), но это такой загадочный момент – не знаешь, с какой минуты начнется. Спиной начинаешь чувствовать, что зала как будто нет, то есть он есть, но он замер; значит, он во внимании к происходящему. И когда наступает такая минута тишины, хочется обернуться: а есть ли там люди? Оказывается, есть, и все они замерли. Это самое большое ощущение радости – те, кто пришел, поняли; каждый по-своему понял музыку.
– Есть ли для Вас сейчас что-то новое в Вашей работе? То, что Вы открываете для себя сами?
– Я долго живу и считаю, что сейчас настала пора, когда концерт нужно связать со словом – с литературой, поэзией. Это дает очень сильный результат. Сейчас я придумал концерт по письмам композитора, который будет исполняться. Это очень важно и проходит с большим успехом. Когда Чайковский общается с каким-то редактором, пишет ему письмо, и мы играем его музыку – это как бы двойной эффект. Практика уже показала это. На таких концертах очень много людей, все жаждут и слова автора этой музыки. Однажды Чайковский пишет из Парижа, что у него было неудачное сочинение, которое там провалилось; он пишет: «Что за люди! Что за люди! Вся Европа нас ненавидит почему-то». И в зале начались аплодисменты: получилось, то время соединилось с нашим.
– В российском зале?
– В российском, в зале имени Чайковского. Вдруг сошлось: оказалось, и тогда нас окружали, и сейчас. Поэтому слово очень важно.
– И Пушкин писал Западу: «И ненавидите вы нас... За что ж? Ответствуйте…»
– Вот это было интересно.
– Вы иногда это делали прежде, ведь и я участвовал в Ваших концертах, когда мы читали письма Шостаковича и играли его музыку, – и это действительно было интересно.
Поговорим о серьезном (хотя все, о чем мы говорим, очень серьезно), о том, что такое современная музыка, современное искусство. Сейчас под маркой современного искусства во всех его видах, будь то кино, живопись, музыка, литература, проводится то, что искусством не является.
Иван Крамской, великий русский художник, говорил так: нет такого понятия – современное искусство. Искусство или есть, или его нет. Но почему-то нам сейчас очень активно, с подачи телевидения, критиков, кормящихся этой темой современного, часто выдают белое за черное и черное за белое, представляя под видом гениального параллелепипеды, квадраты. А что сейчас делается в музыке? Лично я вижу, что даже в наших академических музыкальных заведениях идет тенденция внедрения так называемого современного искусства. Как Вы относитесь к этому?
– Без современного искусства все-таки трудно определить жизнь. Оно должно быть.
– Но современник наш – В. Кикта, музыку которого Вы исполняете, современник – В. Овчинников.
– Насколько талантлив этот современник… Я много общался с режиссурой в разных оперных театрах (причем не в России, а везде) и всегда попадал на какие-то ужасные интерпретации русских опер, того же «Бориса Годунова».
– В чем это выражалось?
– Исторически абсолютно не то. Допустим, когда Иван Сусанин с дочкой и сыном от начала до конца пьют водку, это считается находкой. Я говорю, такого не может быть исторически: в то время водки в России не было.
– И Вам удавалось их переубеждать?
– Да, вплоть до того, что я останавливал репетицию и уходил. Например, в «Золотом петушке» царь Додон приезжал на мотоцикле, я тут же говорил: так не может быть – царь Додон на мотоцикле! Бывали и такие режиссеры, которые по своему таланту возвышались: они делали исторически совершенно неправильно, не так, как это было раньше, но очень талантливо. Тогда талант подменяет так называемую современность, – но надо быть очень, очень талантливым.
Публику сейчас надо завлекать, привлекать, мы потеряли вкус, потеряли ту публику, которая может это опровергнуть. Поэтому такая идея проходит. Некоторые ругают, но все-таки все это проходит, что очень печально. Сейчас в музыкальном деле фактически большой спад композиторов. Я не говорю, что нет Чайковских или Рахманиновых, нет даже Гаврилиных, даже Свиридовых. Свиридов – великий наследник и Рахманинова, и Мусоргского, и Бородина.
– Почему нет? Этого не требует рынок?
– И рынок не требует. Даже финансово о композиторах не заботятся. Нет Союза композиторов такого, какой был раньше.
– Нет госзаказа?
– Никаких заказов, что вы! Но все-таки люди живут, им нужно питаться. К сожалению, этот пробел у нас ощущается очень явно.
– Я стал оптимистом после того, как президент страны В. Путин в 2014 г. издал исторический указ «Об основах государственной культурной политики». Эта политика должна опираться на наши традиции, морально-этические нормы нашей культуры. И, как говорит министр культуры, это стало для них конституцией; только я вижу, что чиновники пока плохо ее исполняют. И мы в Общественном совете при Минкультуры подняли вопрос и пытаемся довести до президента страны, чтобы он задумался над изданием очередного исторического указа о выведении государственной культуры из сферы рыночных отношений. Ибо культура и рынок – понятия несовместимые, у нас разные задачи: у культуры – возвышать, просветлять, укреплять, устремлять к Господу Богу, а у рынка – делать деньги. И деньги делаются сами понимаете на чем; это мы видим и по кино, и по театру (кстати, наши чиновники почему-то дают гигантские деньги – сотни миллионов, миллиарды на постановки практически патологических вещей). С этим что-то надо делать. Как Вы относитесь к понятиям «культура и рынок», для Вас они совместимы?
– Нет. Раньше, в советское время, у нас были советы по культуре – органы, которые контролировали качество, направление культуры. Сейчас их нет.
– Владимир Иванович, есть: это Общественный совет при Министерстве культуры Российской Федерации, где я заместитель председателя. Этот совет имеет гораздо большие полномочия, чем сам министр культуры, который не может ничего запрещать и открыто говорит: «Мы не можем ничего запрещать, мы только деньги даем. Есть право контроля именно у Общественного совета». Именно Общественный совет, увидев эту, как бы помягче сказать, провокационную оперную постановку «Тангейзер», поднял вопрос, чтобы убрать провокационные моменты, не будоражить общественное мнение. Не стали этого делать – и министр издал указ об увольнении директора, он имеет право это сделать.
Но все предложения нашего Общественного совета игнорируются чиновниками. Я смотрю на чиновников Минкультуры и думаю: какое отношение 90% сотрудников Минкультуры имеют отношение к культуре как таковой? Вы ее не понимаете, не чувствуете сердцем, кому вы даете деньги, – как вы все это делаете? Так что здесь тоже надо что-то менять, и руководству государства надо задуматься, кого они ставят на посты министров культуры. То дипломат, то театральный критик, то музыкальный... Критики – это вообще профессия, о которой Тарковский говорил, что это «лишние люди»: что они мне могут объяснить, как я должен реагировать на искусство? Это очень тревожный момент, и вот к чему я затронул эту тему.
Вы знаете Вашего коллегу; он, как и Вы, был замечательным баянистом, это Анатолий Полетаев. В те же годы, что Вы пошли к дирижированию, и он пошел в дирижирование и создал уникальный по звучанию оркестр, где соединил и народные инструменты, и симфонические. Сейчас этому оркестру было бы 50 лет, но что произошло? Приказом нашего руководства Минкультуры этот оркестр уничтожен. Анатолий Иванович Полетаев – профессор, народный артист Советского Союза (а тогда, в ваши времена, звание просто так не давали), создал этот оркестр, у него многотысячная аудитория, и сейчас подписан приговор «о реорганизации оркестра». Полетаева удалили из оркестра – причем как это было сделано?
На роль директора был поставлен завхоз оркестра, который просто подносил им инструменты. Его сделали главным действующим лицом, у Полетаева отняли право первого лица, и сейчас его просто уволили. Я считаю, что совершено преступление, которое не может так просто пройти. Я знаю, что чиновники грешат этим давно. Один из наших бывших министров уволил Светланова, великого дирижера, и Светланов не пережил позора и вскоре умер. Сейчас они то же самое делают с Полетаевым. Причем я объяснял руководству Минкультуры: нельзя этого делать! А они собрали в закрытом зале Чайковского, закрыли все двери, посадили семь музыкантов, и перед ними народный артист Советского Союза, профессор должен был играть как мальчик. Причем состав оркестра они со 105 человек за все годы сократили до 35, грантов никаких не давали, и потом говорят ему: «Вы не соответствуете уровню».
– Россия всегда была высшей точкой культуры – не только в области балета. Такие имена! Все, которых я здесь вижу, – это же все творцы нашей культуры.
– Скажите, пожалуйста, у всех нас, у всех, кто видит Вас по телевидению, такое ощущение, что Вы и Ваш оркестр в полном порядке: вы играете, ездите, вас показывают по телевидению. Честно ответьте: Вы удовлетворены вниманием государства, бюджетом, который отводится Вашему оркестру, или все-таки желательно, чтобы было получше? Ибо не только о вас идет речь, а об ансамбле Моисеева, бренде СССР и бренде России, ансамбле, который посылали в Америку впереди дипломатов: прежде они потанцуют, расслабят, а потом едут дипломаты. У вас сейчас есть возможность ездить за границу?
– Есть, и мы в какой-то мере являемся послами нашей культуры, поскольку выезжаем очень часто. И мы видим реакцию в любом государстве как посланцы русской культуры. Это сохранилось до сих пор, ведь, как пишет пресса, исполнение русским человеком даже нерусского сочинения более глубокое.
– Выездов за границу для вас достаточно? Или вы можете делать больше, но нет возможности?
– Дело не в выездах, а в отношении к нашему оркестру внутри России – здесь недостаточно внимания. Оркестров стало больше, но качество исполнения никто не может измерить: играет Ойстрах или какой-то мальчик. Считается, что Ойстрах – великий скрипач всех времен и народов, и американцы так считают, и все, все, все. Наш оркестр, которому скоро будет 90 лет с момента его организации, получил имя Чайковского – мы же получили его не просто так, а заслужили на конкурсах и по результатам записей сочинений Чайковского. Внимания нашего руководства для культуры недостаточно, причем явно.
– Я это подтверждаю, поскольку когда я предложил вывезти за границу, в Южную Америку, ансамбль Моисеева, где нас ждет митрополит Южноамериканский (мы крайне там нужны), чиновники мне ответили: нет, принято решение не посылать за границу – нет у нас таких денег. Давать миллиарды на патологию, русофобию, на антипутинские пьесы и т.д. могут, а вывезти бренд России уже проблематично. И Вы это тоже ощущаете.
– Конечно, еще как ощущаем, очень сильно! Причем государственный бюджет – какому коллективу что – на последнем месте. Это ужас, просто очень большая несправедливость. Подмена качества и количества меня всегда пугает. Сколько один оркестр дает концертов за полгода? Не нужно сто концертов, нужно качество. А качество никто не оценивает. Нет оценщиков, нет человека, который бы думал об этом. Поэтому ощущение у нас очень тяжелое.
– Такие оценщики нужны России?
– Обязательно. Люди, которые определяют качество.
– А как Вы относитесь к понятиям «идеология» и «цензура»?
– Музыка сильнее любой идеологии. Когда мы играли в Англии (в стране, которая нас исторически не любит) Свиридова, после концерта была громадная толпа молодых, которые спрашивали: «Скажите, что вы играли: современную музыку или старую?» Я говорю: «Современную. Свиридова». Дал адрес Свиридова, и они ему писали письма. Очень сильное влияние, очень сильное.
В любой азиатской стране на нас спрос: приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Ведь русская музыка в исполнении русских артистов – это диво. Я вам не назову ни одного западного композитора, который бы написал на тему русской музыки и все стали бы говорить: да, это хорошо. Наоборот, русский музыкант обладает такими качествами, что может написать любую музыку любой страны: испанскую – Римский-Корсаков, Глинка, который жил в Испании и считался испанцем; настолько глубоко... Это факт – русская культура настолько проникает в любую другую культуру! Не портя ее, но, наоборот, углубляя.
Может быть, исключая только венского композитора Штрауса, ведь это народная музыка. У меня были даже, может быть, смешные случаи: когда я приступил к руководству Венским оркестром, мне подложили Штрауса – пусть русский дирижер... Для меня действительно было очень сложно ощутить народность этой музыки. И после концерта в главной газете была статья, где писали: мы подозреваем, что когда Иоганн Штраус был в Петербурге, согрешил с какой-то русской женщиной, поэтому у него все получилось. Это шутка, но такое было.
– В Евангелии есть такая фраза: Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Вы, Владимир Иванович, соль земли Русской в музыке – сейчас Вы вышли на тот уровень, когда на Вас смотрит и вся Россия, и весь мир. Ждут Вашего слова. Вы очень редко говорите, и я очень рад, что мы здесь поговорили. Я Вам искренне желаю многих-многих лет жизни. Держитесь, крепко держите Вашу палочку, Ваш потрясающий оркестр. На этом будем прощаться. С Богом, дорогие друзья!
Ведущий Николай Бурляев
Записала Елена Кузоро
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Вторник, 23 апреля: 00:05
- Вторник, 23 апреля: 17:00
- Вторник, 30 апреля: 00:05
Мы в контакте
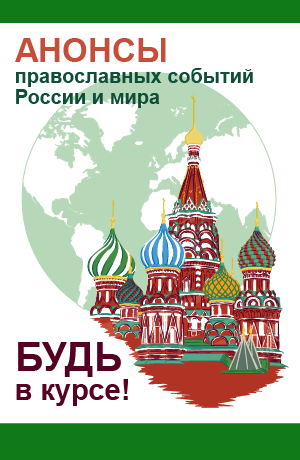
Последние телепередачи
-
 20 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
20 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 20 апреля
-
 20 апреля 2024 г.
«День ангела»
20 апреля 2024 г.
«День ангела»
День ангела. 20 апреля
-
 20 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
20 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 20 апреля. Мученик Каллиопий Помпеопольский
-
 20 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
20 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 20 апреля. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его
-
 20 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
20 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
Читаем Апостол. 20 апреля 2024
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …








