Читаем Добротолюбие. Выпуск от 28 октября
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
Мы продолжаем читать «Наставления о подвижничестве» аввы Евагрия, монаха, из первого тома «Добротолюбия». Обратим внимание на 56-й абзац:
Последний предел деятельной жизни – любовь, а ведения конец – богословие. Начало же обоих их – вера и созерцание вещей. Которые демоны приражаются страстной части души, те называются противниками деятельной жизни, которые же нападают на самую мыслительную силу, те называются врагами всякой истины и противниками созерцания.
Несложное, в сущности, для восприятия слово, но в целом оно затрагивает некоторый аспект духовной жизни, с которым довольно часто сталкиваются, сами того не осознавая, очень многие христиане.
Во-первых, авва Евагрий делит всю жизнь христианина, подвижника на две составляющие, на два аспекта, на два слагаемых: это деятельная жизнь и созерцательная жизнь (или деятельная часть души и созерцательная часть души). Эту мысль потом подхватят очень многие подвижники, духовные писатели, святые отцы, но, как ни странно, больше всего она известна нам из Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Именно там несколько тропарей (два как минимум) посвящены разделению на умную, созерцательную и деятельную части души. Например, там есть замечательный образ, в свое время очень поразивший меня, запомнившийся мне. Преподобный Андрей Критский уподобляет созерцательную и деятельную жизнь человека двум женам Иакова. Причем говорит, что деятельное подобно Лии, потому что многоплодно, приносит много плодов; а созерцательное подобно Рахили, потому что многотрудно. Меня поразила именно сама постановка проблемы, сама постановка сравнения: первая жена, то есть деятельная часть, многоплодна, а созерцание – многотрудно. Кажется, несопоставимые вещи: от одной есть польза – она рождает много плодов, а от другой что? А другая приносит много трудов, много забот, много хлопот, она труднее, а о той радости, которую она приносит, преподобный Андрей Критский умалчивает. Но для внимательного человека подразумевается, что зато Рахиль любима.
Это разделение на деятельную и созерцательную жизнь, внутреннюю и деятельную жизнь подвижника, восходит и к Евагрию, монаху. Деятельная жизнь не в смысле, что человек работает в огороде или на заводе, а в том, что он действует, он совершает определенные деяния, совершает определенные поступки, затрачивает определенные усилия. И плодом этой деятельной части трудничества, подвижничества является любовь, то есть все заповеди человек исполняет для того, чтобы стяжать любовь.
А плодом созерцательной деятельности, плодом созерцательной части души является богословие – знание Бога. Здесь (и как дальше мы будем видеть) авва Евагрий имеет в виду, конечно, не образование, не прочитанные книги, не знание о Боге, почерпнутое из учебников по догматике, нравственному богословию или еще из каких-то книг. Под богословием подразумевается именно способность человека говорить о Боге, потому что он Его знает, потому что он с Ним был, потому что он прожил с Ним часть своей жизни; он может богословствовать. Плодом созерцательной жизни является богословие.
Но дальше авва Евагрий говорит о том, что все (и деятельность человека, приводящая к любви, и созерцание человека, приводящее к богословию) рождается от веры и от созерцания вещей. Причем для него это некий двойственный, но, по сути, единый процесс. Амбивалентный, но единый процесс: вера и созерцание. Для него вера и есть созерцание. Что имеется в виду?
Понятно, что мы сейчас говорим о вере по-другому, поэтому ошибаемся, поэтому говорим немного неправильно о вере, неправильно ее формулируем. Поэтому, естественно, мы не получаем в итоге ничего: не получаем ни измененной жизни, ни любви, ни богословия – ничего, потому что для нас вера сейчас – это просто принятие разумом некоего положения о том, что Бог есть. Это, в сущности, некое проявление рассудочной деятельности: ну да, есть. По всей видимости, исходя из того, что мы видим в мире, наверно, так оно и есть, и мы это принимаем. Но дальше это положение, это решение нашего рассудка никак на нашу жизнь не действует; должно бы, да не действует. А раз оно не действует на нашу жизнь, стало быть, никаких плодов и нет. А не действует на нашу жизнь потому, что никто и не говорит о том, что это должно действовать.
Скажем, мы принимаем некоторое положение разумом, но живем совершенно не так, как нам разум предписывает. Например, с точки зрения научного мировоззрения, научной картины мира мы все понимаем, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Никак это знание на наш повседневный опыт не влияет. Даже какой-нибудь астрофизик все равно произносит слова о восходе, о закате, и он отнюдь не ощущает, с какой скоростью вращается планета вокруг собственной оси. Это знание, которое не влияет на нашу повседневную жизнь. Вот таким же образом мы воспринимаем и веру в Бога: она есть; да, Бог есть, ну и что из этого следует? Я как жил, так и буду жить.
Для древних же вера и созерцание были совершенно неразрывны. Вера и есть созерцание, то есть человек, обретая веру, переживал, чувствовал присутствие Бога в этой жизни, в своей жизни. Именно переживал – и именно присутствие, то есть для него Бог сразу становился не мыслью, не логическим допущением, не перводвижителем, как для Аристотеля или Декарта, а представление о Боге сразу становилось частью опыта, частью переживания мира, то есть частью именно жизни, а не мысли. Человек, по сути, видел присутствие Бога в этой жизни. Не Бога Самого лицом к лицу, а Его присутствие в этой жизни для человека становилось неоспоримым явлением, практически фактом. Вера сразу изменяла как бы точку зрения, с которой человек смотрел на мир. Он видел теперь этот мир совершенно иначе, менялся сам ракурс зрения, само восприятие жизни; по сути, менялась феноменология явлений, менялось совершенно все в человеке, он видел мир иначе. И это обретение иного видения мира, иного созерцания собственно и называлось верой. Так было у древних. Об этом именно свидетельствует в данном случае Евагрий.
И дальше, по мысли аввы Евагрия, получается, что есть силы, которые нас отклоняют от заповедей Божьих. Мы все знаем эти силы, которые внушают нам: поешь, напейся, посмотри телевизор, расслабься, пожалей себя, поленись немножко, полежи на диванчике. Все эти обычные страсти отвлекают нас от заповедей и мешают нам учиться любви, мешают нам любить. Мы их более или менее знаем и худо или бедно как-то с ними пытаемся бороться.
Но дальше он пишет странную вещь: гораздо страшнее вовсе не те враги, которые отвлекают нас от исполнения заповедей, отвлекают нас от любви; страшнее те враги, которые направлены на созерцательную часть души. Он их называет более суровыми эпитетами, они враги всякой истины, то есть это самое страшное, что может быть. Это не просто лукавые духи, мешающие нам идти на службу, это страшные враги, которые лишают самой возможности нам о службе подумать. Ведь страшно не то, что я на службу идти не хочу. Это, конечно, страшно, я знаю, что надо, но не могу, не хочу, я хочу сидеть дома, я хочу кататься на лыжах, я хочу отдохнуть. Это плохо, но во всей этой борьбе для человека однозначно, что он на службу идти должен. Он либо не может, либо не хочет, и это оправдывает его. Но для него непоколебимым фактом является то, что он на службу идти должен. Он может быть злым, он может быть немощным, но он знает, что его место на службе.
А когда враг обрушивается на саму созерцательную часть души, то человеку внушается мысль: «Какая такая служба? Зачем она нужна? Курам на смех. Это зачем? Это совершенно неправильно. Это же очевидно, что никакой службы и быть не должно. Это пережиток прошлого, это недоразумение, возникшее в истории человечества; человек вообще этого делать не должен». Вот это страшно. Теперь человек не переживает, у него нет помыслов, движений сил, которые бы отвлекали его от исполнения заповедей. Ситуация гораздо хуже – он вообще не делает ничего в отношении того, что могло бы быть ему полезным.
Вот это принципиальная вещь, и именно об этом говорят очень многие молитвы святых. Например, в молитве ко Святому Причащению мы говорим: «да не буду от мысленного волка звероуловлен»; то есть: «пусть меня именно мысленный волк не похитит». Имеется в виду не то, когда мне внушается помысел лени, ибо это не страшно (я, по крайней мере, знаю, что я лентяй, и сокрушаюсь, и плачу). Но, будучи звероуловлен мысленным волком, я понимаю: то, что я должен делать, я вовсе не должен. У меня искажается созерцание, я по-другому вижу мир, и в этом мире нет места тому, что требует Бог. И сама мысль о Боге в конце концов покидает меня: «Где? Я Его не вижу. Значит, Его нет». Я потерял созерцание мира в свете Божественной премудрости, я потерял веру. Даже если у меня есть представление о том, что Бог есть, я Его уже не вижу и не чувствую. Вот это, по мысли аввы Евагрия, и является самым страшным.
Пятьдесят третий абзац:
Порождение бесстрастия – любовь, бесстрастие же есть цвет деятельной жизни, а деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блюститель сего исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры, вера же есть внутреннее благо души, которое бывает обычно и у тех, кои не уверовали еще в Бога.
Порождение бесстрастия – любовь, пишет авва Евагрий. Мы обычно противопоставляем бесстрастие и любовь. Для нас на нашем обыденном языке это не одно и то же. Для нас любовь – это эмоционально-активное переживание, это некие известные, очень яркие, очень запоминающиеся чувства и переживания. А бесстрастие, с нашей точки зрения, как раз и есть отсутствие чувства, это нечто вроде бесстрастного, как мумия, застывшего в созерцании буддийского монаха, это что-то вроде полного отсутствия каких-то эмоций или чувств. Тем более что на греческом языке слово «бесстрастие» звучит как «апатия»... Но святые отцы под этим термином понимали совсем другое, вовсе не апатию в нашем смысле этого слова, хотя мы именно так ее и воспринимаем. Бесстрастие представляется нам в образе человека, который ко всему равнодушный, с нашей точки зрения. Бесстрастие – это равнодушие, почти мертвый человек. А любовь – это что-то яркое, что-то насыщенное, что-то глубокое.
Для святых отцов все это было не так, совсем не так. И дело именно не просто в словах, мы действительно по существу не воспринимаем бесстрастие как эквивалент любви. Для святых отцов так оно и было – бесстрастие и есть любовь, полнота любви есть бесстрастие. Но мы наследники другой традиции, как это ни прискорбно. На наше воспитание в значительной степени повлияло западное влияние (начиная с XVII века, в XVIII веке, в XIX веке). И, скажем, вот этой современной культуры (современной по отношению к древней святоотеческой традиции) в нас гораздо больше, чем святоотеческой древней практики, мы мыслим иначе. Для нас бесстрастие и бесчувствие –одно и то же.
Если мы задумаемся, то, оказывается, совершенно не знаем чувств именно бесстрастных, для нас все чувства воспринимаются именно как страстные проявления. И мы действительно не понимаем, что такое отсутствие страсти, потому что знаем только те чувства, которые страстны. У нас настолько испорчена чувственная гамма, что мы знаем все чувства только в проявлении страсти. Мы знаем супружескую любовь, мы знаем родительскую любовь, сыновнюю любовь, патриотическую любовь. Мы знаем все эти состояния любви только в их страстном изображении, мы не знаем эти чувства в их чистом, незамутненном свете. Мы все отравлены страстями, и более всего отравлено именно то, что мы называем любовью. Но мы об этом даже не ведаем.
И вот Священное Писание нам говорит: «В вас должны быть те же самые чувства, которые были во Христе Иисусе». Но у нас нет этих чувств. Нам показано, что наши чувства должны быть очищены от страстности. Не чувства должны мы убивать, а страсти. Убивая страсти, мы очищаем наши чувства, и они в нас становятся такими же, какими были во Христе, они становятся Христовыми чувствами. И тогда мы принимаем и понимаем (но сначала принимаем) то, что говорит Христос.
Но странные у Него чувства. Ему говорят, что башня упала и раздавила людей. Он не впадает ни в уныние, ни в депрессию, ни в критику, ни в осуждение, ни в печаль, ни в трагизм, ни во что. Он спокойно говорит: «Если не покаетесь, то все так погибнете». Ему говорят, что пришла мать и Его ищет, Он говорит: «Я не знаю никакой матери, Моя мать – все здесь стоящие, вот Моя мать, Я никуда не пойду». Ему говорят о том, что один из учеников предатель, Он говорит: «Ну и что? Ну, предатель и предатель; значит, так надо, пусть будет предателем. Жалко его, конечно». Но Он не делает попыток его обратить, вразумить, пламенно убеждая его в том, что предавать плохо. Ему говорят: «Тебя через неделю убьют страшной смертью». Он говорит: «Ну что ж! Так надо. Надо убить – так убьют. Чему быть – тому и быть, Я не собираюсь ничего изменять в том, что предначертано Моим Богом». Он вполне спокойно относится к тому, что Его унижают, что Его бьют, что Его имя проносят яко зло перед людьми, и Он все это совершенно спокойно (не равнодушно, но мирно!) принимает. Вот такие чувства должны быть у нас.
А мы можем себя спросить: мы готовы к этому? Мы хотим, чтобы у нас были такие чувства? Может быть, на самом деле, в самой глубине своей души, вовсе и не хотим быть похожими на Христа? Мы настолько отравлены безбожной, секулярной культурой, что Христовы чувства нам кажутся бесчеловечными, да и не случайно. Мы практически шестьсот лет живем в эпоху гуманизма, мы все пропитаны именно гуманизмом, не церковностью, не христианством, не теологией, мы проникнуты гуманизмом. И попробуй-ка кто-либо усомниться в том, что гуманизм – это плохо, попробуй-ка хоть кто-нибудь сказать, что гуманизм – это ложное учение. Это же немыслимо! Это не то что другие человека заклюют, он сам постыдится собственных слов, ведь гуманизм – это здорово, человек – это звучит гордо. А то, что в гуманизме нет главного, нет любви, нет истины, нет жизни, кому это сейчас интересно? Кто все это ищет в гуманизме? Никто не ищет. Да и никогда не искал. Главное, чтобы человек был избавлен от всех этих категорий: и от любви, и от истины, и от жизни. Главное, чтобы остался просто человек как он есть, ведь его и секуляризовали, когда гуманизм оторвали от христианства, когда разорвали человека и Бога, что и было соединено в лице Иисуса Христа. И получился просто гуманизм. Тогда можно было торжествовать: Бог уже не будет вмешиваться в жизнь человека ни истиной Своей, ни любовью, ни жизнью. И человек может радостно, очень благонравно и с наслаждением жить этой жизнью и прекратить эту жизнь, когда и как ему захочется.
Все это о том, что на самом деле, отказавшись от христианских идеалов, от Его чувств, мы неожиданно оказались неспособными и к любви.
Записала Инна Корепанова
Нравится:
TweetМы в контакте
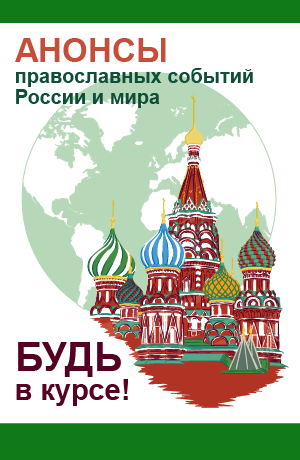
Последние телепередачи
-
 24 апреля 2024 г.
«По святым местам» (Екатеринбург)
24 апреля 2024 г.
«По святым местам» (Екатеринбург)
По святым местам. Покровский храм Камень на Оби
-
 24 апреля 2024 г.
«Первосвятитель»
24 апреля 2024 г.
«Первосвятитель»
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 5-ю Великого поста
-
 24 апреля 2024 г.
«Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
24 апреля 2024 г.
«Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
«Православный на всю голову!». О прощении грехов
-
 24 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
24 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
Благая часть. 24 апреля 2024
-
 24 апреля 2024 г.
«У книжной полки» (Екатеринбург)
24 апреля 2024 г.
«У книжной полки» (Екатеринбург)
У книжной полки. Лекарство для души
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







