Слово. Ограничения в искусстве
Искусство является результатом творческой деятельности человека. Когда мы говорим «творчество», то подразумеваем понятие «свобода» – следовательно, искусство является результатом свободной творческой мысли человека. Но можно ли эту свободу ограничивать? Об этом мы поговорим с историком, искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым.
– Ограничение – это цензура, о которой сейчас очень много спорят, и в этих спорах высказываются диаметрально противоположные мнения. Не наносит ли цензура урон творчеству, не приведет ли это к деградации творческой мысли?
– Желание жить без каких-либо ограничений, без оглядки на государство, общество, близких (вообще без ограничений) – мечта любого художника во все времена. Правда, видите ли, нет и такого художника, который не был бы заинтересован в том, как его творчество принимается в этом обществе, этим государством. Ни один художник, наверное, в этом не признается полностью, потому что считается, что свобода гораздо важнее.
Мы ведь очень странные существа. Человек – это и политическая, и социальная, и культурная система. Он все время существует как стадное существо в этом пространстве мира, и на самом деле он творит в этом мире и для этого мира – и для него очень важно, принимается это миром или нет. Так что свобода свободой, а вот этот мир все время имеется в виду. То есть важно не только то, почему я создаю, зачем, но и для кого. Разве это уже не является цензурой: когда я что-то делаю, я думаю о вас? Это уже определенная форма ограничения моих самых безумных и, может быть, очень творческих фантазий.
Кроме того, к цензуре наверняка может быть отнесено такое явление, как элементарная культура художника, потому что в любой культуре существуют свои табу, то есть свои зоны недопустимости. В конце концов, культура вообще существует из бесконечных систем запретов и умолчаний. Когда вы разрушаете эти табуированные зоны, вы разрушаете на самом деле культуру; и, следовательно, – цивилизацию.
Конечно, художник – это принадлежность культуры и цивилизации. Раз он в ней уже существует, то это – тоже цензура, это внутренний цензор; и, несомненно, цензор самый непримиримый. Творчество человека может ограничиваться только этими цензорами, если деятельность этого человека не носит публичный характер. Вот мы с вами ставим спектакль в домашнем театре и приглашаем только самых близких; пишем роман или поэмы в стол, для себя или, может быть, для того, чтобы прочитать это на собрании гостей под Рождество; или пишем картины, опять-таки оставляя их в своей мастерской; или (если я – архитектор) я делаю дом для себя на дачном участке – это не сфера публичности.
Но если вы выходите в публичное пространство, независимо от самого своего дарования, своего темперамента, вы вступаете в контакты с вашим работодателем, каковым является государство и общество. Если мы являемся работодателем и приглашаем кого-то на работу, мы очень настойчивы в том, чтобы добиться от приглашенного того, что он должен выполнить, того, что мы хотим. И мы очень обижаемся, если поклеили не те обои, или не так сделали переплет у книги в переплетной мастерской, или не так что-то починили. Почему же тогда мы должны удивляться, что у государства и общества есть к нам свои требования? Это и есть цензура. Это может совпадать с нашими убеждениями или нет.
Мы находим форму компромисса между собой и работодателем или не находим. Если не находим, тогда, наверное, честнее было бы не работать на государство, не получать деньги у этого государства или общества, не получать от него наград, то есть знаков привилегированности. Ведь когда человек получает орден или почетное звание, он признается в своей органической слиянности с этим государством. И вдруг мы обнаруживаем, встречаем у него что-то иное – это странно. То есть контроль со стороны этих органов совершенно естественен.
Цензура не является чем-то ужасным и нелепым – это коридор желаний заказчика. И вы в него вписываетесь или не вписываетесь – вот, собственно, и всё. Является ли это ограничением свободы творчества? Конечно, это ограничивает вашу свободу творчества. Наверное, точно так же, как если бы, скажем, мы с вами оказались в небольшом провинциальном театре и мечтали бы поставить, например, оперу «Набукко» (или «Борис Годунов») как большую оперу, с большим количеством людей, но у нас такая вот маленькая и неглубокая сцена – мы объективно поставлены в такие условия.
– Юрий Алексеевич, а могут быть ограничения в интерпретации авторского текста или это вообще недопустимо? Если все-таки возможно, то как понять, когда надо остановиться?
– Понимаете, есть текст – мы его с вами читаем. Автор может прописать очень многое, но он не может прописать интонацию. Интонация рождается от индивидуальности исполнителя. Можно это назвать интерпретацией или нет?
Послушайте в записи, как звучит монолог Чацкого на уход: в исполнении Юрия Михайловича Юрьева (это 40-е годы; это прощальный поклон императорского театра) и Сергея Юрьевича Юрского. Один и тот же текст, удивительное внимание и уважение к автору, буквально растворение в этом авторе в том и другом случае, но это разные индивидуальности в разные времена. И это вдруг обнаруживает, что перед нами два совершенно разных Чацких: один может упасть в обморок, как это было в спектакле Товстоногова с Сергеем Юрьевичем Юрским, а другой – это монументальное героическое величие, он гордо уходит со сцены победителем. Что это? Это – интерпретация. Какая цензура здесь может наложить запрет?
В музыке все гораздо проще. Там авторы пытаются как можно более подробно прописать абсолютно всё, если, конечно, это не авторы XVII или XVIII века, которые иногда оставляют большие лакуны. Опять-таки здесь существует индивидуальность исполнителя.
Есть, скажем, аранжировки. Мы с вами знаем, что существует, например, «Борис Годунов» в инструментовке Римского-Корсакова, есть «Борис Годунов» в инструментовке Шостаковича, есть эта опера в других разных инструментовках. Допустимо ли это? Это ведь тоже вмешательство в авторский текст. Правда?
Но как быть, если нет авторской аранжировки? Мы с вами знаем о том, что, например, после Первой мировой войны Малеру, Рихарду Штраусу, иным композиторам приходилось делать новые аранжировки больших симфонических произведений и оперных произведений для маленьких театров; маленьких, буквально камерных, коллективов. Это насилие и своеволие над личностью автора? Или, скажем, листовские или рубинштейновские переложения и фантазии для фортепиано. Или у Ференца Листа такие же фантазии на тему «Кармен», на тему опер Верди? Тут все зависит от внутренней культуры, и ничего здесь иного предложить нельзя. Это то, что обнаруживает качество культуры, времени и этого человека.
Когда мы говорим о цензуре, которая вдруг неожиданно может разрушить творческую природу человека, то говорим о том, что как раз, наоборот, цензура-то и позволяет художественной природе человека процветать, потому что эзопов язык – это по своей природе уже образный язык. В самом деле, зачем нам писать басню, когда можно написать памфлет? Зачем писать пьесу, когда можно написать доклад или статью?
В искусстве действует тот же самый закон, что и в истории. Суть этого закона заключается в том, что чем лучше – тем «мертвее», тем хуже. Для того чтобы появилось новое качество, необходима преграда, проблема, преодоление – тогда рождаются и новое качество, и новый язык, и новые формы. Новые из века в век – это очень существенный момент.
– Юрий Алексеевич, я очень надеюсь, что мы продолжим говорить об искусстве в наших следующих передачах.
Дорогие телезрители! Через искусство человек не только самовыражается, но и познает себя. Именно через искусство человек общается с вечностью.
Ведущая Екатерина Соловьева
Нравится:
TweetМы в контакте
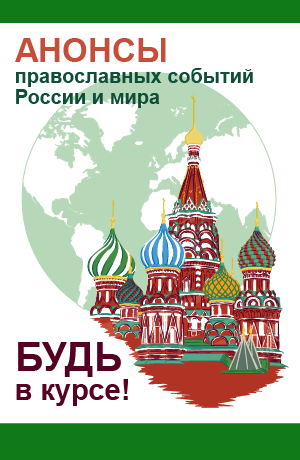
Последние телепередачи
-
 19 апреля 2024 г.
Великий пост
19 апреля 2024 г.
Великий пост
Наставление на Великий пост. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим
-
 19 апреля 2024 г.
Великий пост
19 апреля 2024 г.
Великий пост
Наставление на Великий пост. Священник Алексий Дудин
-
 19 апреля 2024 г.
«Союз онлайн»
19 апреля 2024 г.
«Союз онлайн»
РОДИТЬ_ЛЮБИТЬ_РАДОВАТЬСЯ: СОХРАНИМ ЖИЗНЬ. II форум в г.Орле
-
 19 апреля 2024 г.
«Союз онлайн»
19 апреля 2024 г.
«Союз онлайн»
СОЮЗНИКИ_ПАЛЕСТИНА: Вифлеемская икона и акафист Божией Матери. Великий пост
-
 19 апреля 2024 г.
«Путь к храму» (Новосибирск)
19 апреля 2024 г.
«Путь к храму» (Новосибирск)
«Путь к храму» (Новосибирск). Выпуск от 19 апреля 2024
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







