Мысли о прекрасном. Член-корреспондент Российской академии художеств Василий Куракса. Часть 1
Мне хочется поговорить сегодня в большей степени о пейзаже. Ну и о других жанрах живописи, потому что человек, с которым мы сегодня встречаемся, в равной степени себя проявляет в разных жанрах, что редко бывает. В основном люди специализируются в чем-то одном. Это мой давний товарищ, художник очень активный, влюбленный в свое дело – Василий Куракса.
– Василий, мы с тобой давно знакомы, ты учился в Академии Глазунова, я периодически заходил и видел, как ты там работаешь. Расскажи о своем становлении в искусстве, о своей родине, о своих ярких впечатлениях детства или юношества. Всегда интересно, как становятся художником.
– Родился я в Киевской области, в городе Припять. Произошла Чернобыльская авария, и нас эвакуировали из зоны отчуждения (мне было 5 лет), таким образом я попал в город Брянск. Это по маминой линии, у нее там были родители. И там уже было мое юношеское становление, обучение в школе. В школе на самом деле по ИЗО, рисованию я получал тройки, но я очень любил всегда что-то делать своими руками. Был труд, другие предметы, где мы вырезали шкатулки, что-то разрисовывали, такое декоративно-прикладное искусство. Я тогда не знал, что, оказывается, есть художественные школы, где можно чему-то научиться.
И вот уже в 9-м классе я пришел в художественную школу. Отучившись там два года, поступил в Брянское художественное училище. И там уже началось мое профессиональное становление. Мне всегда это очень нравилось, я оставался на дополнительные занятия, мы много работали со старшими курсами и спустя три года обучения я со своими друзьями приехал в Москву и попытался поступить уже в высшее учебное заведение, поскольку понимал, что мне это нравится и я хочу этим заниматься.
С третьего курса художественного училища я поступил в Академию живописи, ваяния и зодчества им. Глазунова. И далее начинается уже серьезная жизнь, Москва, другой город, другие возможности. Мы начинаем очень много путешествовать, это постоянные творческие поездки. Илья Сергеевич очень много нас возил по разным городам, мы копировали в Эрмитаже, были на Псковщине, в Санкт-Петербурге. Очень интересная поездка была в Италию, в Венецию, с самим Ильей Сергеевичем мы туда ездили. Это уже после малого диплома, малой картины.
Со своей будущей супругой Натальей мы учились в одной группе, на одном курсе, и со второго курса уже начали встречаться. И по сей день мы вместе работаем, постоянно везде ездим, постоянные пленэры.
– А что для тебя была Академия? Я первый набор Академии заканчивал, и это большая разница была. Советский Союз, еще советские понятия, атеистические, социалистические. А тут, в стенах Академии, монархический уклон, религиозная тема. Для многих это было шоковое состояние. Не знаю, как ты воспринимал эмоциональные встряски Ильи Сергеевича. Расскажи, что интересного было?
– Сейчас, пройдя уже какой-то период творческой деятельности, после такой большой временной паузы мы можем уже какие-то оценки давать периоду обучения. Есть с чем сравнить, есть на что посмотреть, уже опираясь на жизненные моменты. И я понимаю слова Ильи Сергеевича, которые он нам говорил, попытаюсь их процитировать: «Возьмите автомат и идите в бой, потому что после окончания Академии вам будет очень тяжело». И мы тогда не понимали, что значат эти слова. Но действительно, после окончания Академии мы их поняли. Мы поняли, как сложно выйти в мир, когда нет такого красивого мостика из Академии в жизнь; и мы, как котята, просто выпали в жизнь. А дальше – что делать? Чем заниматься?
Да, Академия дала очень мощное образование. Максимально возможный для каждого художника заряд можно в нашей Академии получить. А как дальше быть и чем заниматься в свободном плавании? Я знаю, что кто-то из наших ребят ушел особняки расписывать, кто-то росписью храма занялся, а конкретно в живописи, конкретно в картине, в живописной теме осталось столько, что буквально по пальцам можно сосчитать.
Конечно, очень много ярких впечатлений во время самой учебы было. Тем ребятам, которые пришли и учатся после нас, наверное, рассказывают о нас. А когда мы учились – нам рассказывали как раз о вашем поколении, а вам было еще сложнее.
– У нас все было разбито в Академии. По сути, только стены были, была реально боевая обстановка.
– Мы когда приехали в Венецию, в Венецианскую академию, и увидели то, что там делают студенты, – я был поражен. Это было очень нужное и правильное место, в которое мы попали. Там было воспитание, нужное воспитание, правильное воспитание. Любить свою Родину, любить Россию, любить свою историю. Нас этому не только учили, но и заставляли понять, и это очень важный момент.
– Ты специализировался по пейзажу, пейзажную мастерскую заканчивал, то есть ездили на пленэр, что всегда интересно.
– Постоянно, каждый год по нескольку раз. Все пленэрные поездки планировались, мы ждали этих моментов, это всегда весна или осень, иногда лето. Я очень часто зимой сам выхожу на пленэр.
– Я видел, когда ты работал над своим дипломом. Это небольшой волжский городок Юрьевец. Очень интересны эти провинциальные городки, они имеют свое лицо. А как ты увидел Юрьевец и почему эту тему взял?
– Дело в том, что мы, уже будучи в пейзажной мастерской, очень много путешествовали по разным местам. Александр Павлович Афонин часто нас вывозил за город, чтобы мы могли насладиться природой, порисовать ее. И в некоторых местах мы уже бывали ранее. А на Волге я не был, и мне всегда хотелось ее увидеть. А на дипломную работу уже готов был эскиз по Поленову, с таким старым деревом, кладбищем в Бехово, а на удалении река... Эскиз уже преподаватели видели и сказали, что он неплохой, можно начинать.
А поскольку у меня супруга из Иваново, у нее отец тоже художник, Александр Павлович Антохин, он предложил съездить куда-нибудь на Волгу. Я предложил в Плес, так как я не был в Плесе. Он сказал, что Плес действительно очень красивое место, но есть и другие красивые места. И мы поехали в Юрьевец на Волге, к его другу, тоже художнику.
Мы приехали вечером, а утром был сильный, густой туман, города мы не увидели, Волги тоже, и я уже подумал, что зря приехали. И вдруг туман рассеялся, проглянули осенние лучи солнца, я увидел дивный простор на фоне темного неба, архитектура засветилась яркими контрастными цветами, желтые деревья... И я понял, что это образ нашей Родины, это образ старых русских городов; и вообще редкость, что этот город так сохранился, практически нетронутым. Часть города находится под водой, затоплена, а в другой части как будто попадаешь в XIX век. И мне так захотелось написать какую-то небольшую работу! Мы написали этюды, сделали то, что успели. И когда я вернулся – сразу же приступил к работе, находясь под впечатлениями. И привез работу в Москву, показал преподавателям, переубедил их, что нужно не Поленово делать, а именно Юрьевец на Волге. И, слава Богу, они согласились. И так родилась эта картина.
– Это как раз родина Тарковского, братьев Весниных, архитекторов известных. Если ты знаешь, Волга была затоплена, и напротив Юрьевца – так называемые Асафовы острова. Волга там делает поворот, и открывается колокольня, центрующая весь этот городок. Плес в миниатюре. Там есть еще Пучеж, он был полностью затоплен, а Юрьевец частично.
– Кинешма еще очень красивый город. Вообще вся Волга удивительна.
– Эльдар Рязанов снимал свой «Жестокий романс» там, это как раз Кострома, Плес, Ярославль. Это такой дух Волги. Хорошо, что такая «прививка Россией» у тебя произошла.
– Этот город меня вдохновил на дальнейшее написание целой серии работ по старым русским городам. Как, в принципе, нас учили: не этюд ради этюда, а этюд ради картины.
Здесь есть работа, называется «Мирное небо». Был праздник в честь Крещения Руси князем Владимиром. Я залез на колокольню, а это город Калининград. Откуда в Калининграде может быть храм в таком ярославском стиле? Он освящен в честь всех святых и построен на месте Гумбинненского сражения Первой мировой войны. Я поднимался на эту колокольню четыре раза, написал четыре работы и на выставке в музее города Гусев, раньше он был Гумбиннен, мэр города и директор Гусевского музея попросили написать большое полотно именно с этим видом, где будет центральная площадь, где будет видна архитектура. И в этом году как раз была торжественная передача этой работы на выставке, посвященной Первой мировой войне. И холст два на три метра с этого этюда был написан именно с городом Гусевым. Картина там будет пребывать постоянно, в Краеведческом музее. Вот, получается, этюд – и дальше картина.
Есть работы в Костроме, это разные годы, разные поездки. Это весна, дворянская архитектура, наши типичные уютные домики. Это постоянные путешествия, постоянные наблюдения.
– Как ты выбираешь мотив, что тебя интересует? Пейзаж, архитектура, состояние?
– По-разному бывает. Мне кажется, прежде чем что-то делать – нужно сначала это очень сильно полюбить, должна быть цель и задача, что именно ты хочешь показать. Здесь мне понравилось то, что уже вечерело, эта слякоть промозглая, весенний мокрый холод, небольшое движение людей, машин... Такой купеческий весенний городок.
А на другой картине снег первый выпал, причем накрыл мгновенно. Начиналась эта работа ради каланчи, а когда пошел снег, то образовалось это очень интересное переходное состояние.
– Затронем работы твоей супруги. Я смотрю, они более плотные в цвете, у тебя немного техника другая.
– Она очень тонкий цветовик, вообще женщина всегда чувствует колорит, и ее женский взгляд очень тонко может схватить состояние.
Вот, например, работа «Качели детства». Это академическая дача в одной из творческих поездок, когда мы от Союза художников России выезжали на «академичку», там жили, писали для российских выставок. И вот ей очень понравился сюжет, когда дети качались на качелях между березами, рядом старые домики – и все это вечерним светом освещено.
Образование у нас одинаковое, мы всегда по жизни вместе шли, и учились вместе, и вместе писали.
А на этой работе сумерки в городе Иваново. Это центр города. Я называю эту картину «Сумерки перед Рождеством», она немного по-другому ее называет.
Когда у нас первый ребенок появился, естественно, на нее все эти бытовые моменты легли, ей пришлось дома больше проводить времени. И вот этот вид она из окна увидела, ей понравилось, и пока ребенок спал – она начала писать.
– Я смотрю, здесь и Сергиев Посад, лавра. Поскольку ты там живешь, то все это как декорации твоей жизни, благодатные места.
– По Сергиеву Посаду я стараюсь каждый год что-то сделать. Очень много работ уже сделано по этому городу; наверное, каждый художник там бывал и стремился что-то написать. И у меня есть работа, которую никто не делал. Это рождественская ночь в Сергиевом Посаде, она написана тоже с натуры. И есть лавра на рассвете. Первый луч упал на фоне темного неба, выхватил солнцем лавру, а все вокруг было еще потухшее. Я рад тому, что я могу наблюдать за этим городом каждый день и выбирать состояние, которое у других художников я не видел.
Есть работа по родине Васнецова, это Кировская область, Уржум, Вятка. Это был Всероссийский Васнецовский пленэр, который ежегодно проходит в городе Кирове. В этом году мы ездили вдвоем с супругой, я специально вывозил ее в Уржум, поскольку пленэр проходил в городе, но, мне кажется, побывать на Вятке и не побывать в Уржуме – нельзя. Там как раз сама природа рассказывает о том, как зарождался Васнецов как художник, потому что там уникальная природа, уникальные деревья, речушки. И там очень хорошо живет частное сельское хозяйство, там земля постоянно работает.
У нас тоже есть Краснодарский край, но центральная часть немного отстает. А там действительно у них все это хорошо развито, много частных предприятий, которые изготавливают прекрасную продукцию. Мы удивлялись тому, что я там первый раз с детства вошел в гороховое поле, любовался подсолнухами, скошенной рожью. Вятские земли действительно очень интересны и хороши с точки зрения живописи. Там тоже у них своя большая история.
– Какие еще пленэры отложились так в памяти?
– Один из последних – мы полюбили город в Калининградской области и ежегодно стараемся туда съездить. Уже четыре года подряд мы туда приезжаем. Наверное, у каждого художника есть свое любимое место. Пленэров было очень много за всю жизнь, везде хорошо, уникальные совершенно места, но почему-то последние годы туда тянет. Я не знаю, может, это привычка. Я всегда жду, что, наверное, сейчас он будет такой же, как в прошлом году, то есть что-то повторится. Но он всегда уникален по-своему, всегда что-то новое происходит, хотя город небольшой. Очень много мотивов, как и у нас в средней полосе, но истории почему-то больше, она там чувствуется острее. И небо другое совершенно, и краски другие. И для своего развития в данный момент я чувствую, что мне туда нужно пока ездить. Мне это нравится, это очень интересное место.
– Ты пишешь в основном сразу с натуры? Или в мастерской потом тоже что-то дорабатываешь?
– Стараюсь не дорабатывать. Те картины, которые здесь представлены, большей частью с натуры. Лучше два-три захода сделать на натуру, чем потом в мастерской из головы что-то писать. Много работ было испорчено таким образом, уже знаю по себе. Натурный этюд лучше на натуре либо сразу заканчивать, либо повторно приходить.
– Конечно, в одно состояние не попадешь.
– Да, будет другое состояние, но какие-то моменты все равно натура всегда подскажет. Иногда за три сеанса пишу. Солнце движется быстро, и, получается, у художника есть час, а потом все меняется. За час нужно успеть что-то сделать.
– В этом и особенность пейзажной живописи, она создает впечатление настроения. Конечно, и тон, и цвет важны, но главное – этот эмоциональный градус, когда твоя радость от увиденного пейзажа передается зрителю. Это не должно быть какой-то вымученной работой, этот восторг на кисточке должен оказаться. Это же вертикаль энергии – от человека к человеку.
– Полностью соглашусь. Мы путем наблюдения на разных выставках (а мы стараемся по нескольку выставок в год обязательно сделать) заметили, что зрители именно те самые эмоции видят, чувствуют, воспринимают их. И одни и те же отзывы, об одних и тех же работах – от совершенно разных людей.
– Да, у людей что-то нахлынет, какие-то воспоминания о своих похожих местах, о своих впечатлениях, у кого-то что-то вспомнится из детства. Часто говорят: «Это прямо как у нас – лес, домики, церковь»... Это нечто общее, то, что называется образом. Если художнику удается найти образную вещь – она становится в чем-то символичной. И тогда становится универсальной. Это как универсальный ключ, который открывает сердца, мысли, души зрителей, русских людей.
Мы продолжим наши беседы с Василием, потому что это художник очень тонкий, очень внимательный. И в следующих передачах мы раскроем с других сторон грани его творчества, творчества его супруги Натальи. Искусство – это то, что нас объединяет. Особенно в наши непростые времена.
Ведущий Олег Молчанов, заслуженный художник России
Записала Полина Митрофанова
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Суббота, 20 апреля: 21:30
- Понедельник, 22 апреля: 02:05
- Четверг, 25 апреля: 08:30
Анонс ближайшего выпуска
Гость передачи - заведующий музеем художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова Музейного объединения Архангельска Иван Катышев. Выставка, посвященная творчеству художника Александра Борисова, проходит в музее "Старый Английский двор". Здесь собраны картины художника - первого среди русских живописцев, изобразившего на своих полотнах пейзажи Арктики. Александр Борисов совершил ряд полярных экспедиций с художественной целью и стал первооткрывателем заполярной темы в русском изобразительном искусстве.
Мы в контакте
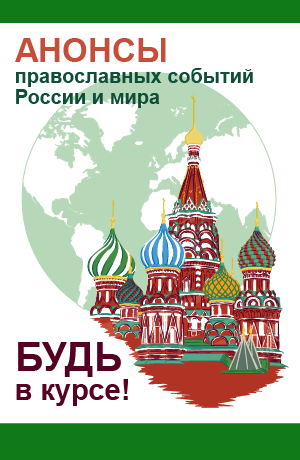
Последние телепередачи
-
 21 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
21 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 21 апреля
-
 21 апреля 2024 г.
«День ангела»
21 апреля 2024 г.
«День ангела»
День ангела. 21 апреля
-
 21 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
21 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
Читаем Апостол. 21 апреля 2024
-
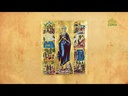 21 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
21 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 21 апреля. Неделя 5-я Великого поста. Преподобная Мария Египетская
-
 21 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
21 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 21 апреля. А кто хочет быть бо́льшим между вами, да будет вам слугою
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







