Читаем Добротолюбие. 17 октября. Священник Константин Корепанов
Я благодарен Богу, что когда-то давно, в 1994 году, один очень хороший человек подарил мне полное собрание сочинений Ефрема Сирина на русском языке. Издание было никудышное с точки зрения издательских технологий. Ну, что вы хотите? 1994 год, репринт, газетная бумага, хрупкий переплет. Но я очень благодарен.
Прочитав эти сочинения, я навсегда полюбил Ефрема Сирина так глубоко, что больше никогда его не перечитывал, как бы оставив… Я все помню, как читал. Конечно, уже есть какие-то провалы, что-то хочется перечитать, но держу эти книги со своими «записульками» в каком-то особом месте, не возвращаясь к ним, не перечитывая, чтобы оставить то удивительное чувство, которое испытал, читая Ефрема Сирина впервые.
Позже я полюблю других авторов и буду чаще всего на них ссылаться. Те, кто слушает меня постоянно, знают, что я никогда или, может, почти никогда не ссылаюсь на Ефрема Сирина. Это как первая любовь. Человек потом женится, у него счастье, дети, всё… Но где-то есть уголок, в котором спрятана первая, может быть, неразделенная любовь, очень нежная, очень трогательная.
Что-то подобное я испытываю к Ефрему Сирину. Тем более что он был тогда очень важен и нужен. Он вообще-то всегда очень важен и нужен, потому что он удивительно, как никто другой, может писать о покаянии. Я сознательно употребил выражение «писать о покаянии», чтобы было понятно, а вообще-то он человек, который просто каялся публично, в письмах.
Это нечто похожее на интонацию Иоанна Кронштадтского, с известными, конечно, оговорками, потому что Иоанн Кронштадтский другой человек, другого склада, из другой эпохи, но эта искренность, с которой человек пишет о себе, – это интонация Ефрема Сирина. Он рассуждает о покаянии, но рассуждает как-то очень лично, как будто не пишет о покаянии окаянным грешникам, которых хочет обратить ко Христу, а размышляет о своем покаянии.
У Ефрема Сирина очень много слов о покаянии. И все это необыкновенно поэтические суждения, порой молитвенно-поэтические размышления о покаянии, очень пронзительно глубокие, цепляющие за сердце. Конечно, тому, кто ищет, как примириться с Богом, эти слова дают надежду. Они включают его в мир кающегося человека.
Ведь в том-то и дело, что у нас до сих пор еще на исповеди достаточно много людей стоит, но кающихся среди них почти нет. Одно дело, когда грешник, вчера пришедший от греха к Богу, кается, просто называя свои грехи, почти такие же, как и у тебя, называя их и даже плача о них, но он именно расстроен своей греховностью.
А когда включаешься в покаяние святого человека, который никогда и не делал таких грехов, какие ты делаешь, когда прикасаешься к его плачу, к его представлению о грехе, это включает тебя, захватывает, и ты понимаешь, чувствуешь, что покаяние возможно, примирение возможно, что покаяние – это единственное нормальное состояние человека.
Я могу это доказать. Но никому от этого легче не станет, никто не вдохновится словами о том, что покаяние – это очень важно или покаяние – единственное нормальное состояние для верующего человека. Это всё слова, которые невозможно никак доказать.
А вот когда ты приобщаешься к покаянной жизни, к покаянному плачу святого человека, в тебе просыпается такое чувство: «Хочу быть таким, как он, хочу делать так, как он, хочу плакать, как он. Я прикоснулся к его жизни, как бы подглядел за жизнью святого человека. Хочу так же, не хочу иначе».
Вот это «хочу так же» зажигает человека, как отзвук того, что сказал апостол Павел: подражайте мне, как я Христу. И ты неожиданно для себя обретаешь очень глубокую и правильную интонацию отношений с Богом.
Повторю, у Ефрема Сирина очень много этих покаянных размышлений, рассуждений, излияний, молитв. До нашего всеобщего обозрения дошла только известная молитва Ефрема Сирина, необыкновенно глубокая, необыкновенно всех утешающая.
Но это только песчинка на огромном океанском побережье его покаянных слов. И как это передать? Текст того или другого его слова может занимать от двух до пяти страниц, а как это разбить на абзацы? Как поэму разбить на абзацы, на отдельные фрагменты, отдельные изречения? Это очень трудно, ведь такая поэма – почти поток.
Скажем, мы делаем разбор анафоры: это санктус, это эпиклесис, это то-то… На самом деле когда ты входишь в молитву анафоры, когда ее не прочитываешь, а когда молишься, то не разделяешь ее на части – невозможно это делать. Наоборот, все эти разделения как бы рвут ткань молитвы. Тебе хочется выложиться до последнего возгласа к Богородице. Когда молитва вроде закончилась, можно выдохнуть.
Анафора раздроблена: там песнопения, там возгласы… Но вообще-то это почти единый текст, который дробится очень и очень условно. Вот и любое слово, покаянное размышление – это целостное произведение сравнительно небольшой формы, которое по живому режется, когда вы делите его на абзацы.
Может быть, по этой причине в греческом «Добротолюбии» Ефрема Сирина нет. Вот вы открываете порой не «Добротолюбие», а просто текст того или иного святого отца. Есть отцы, которые пишут абзацами. Например, у Иоанна Лествичника абзацы. Да, «ступени» разделены, но это абзацы – крошечные, на две-три строчки или чуть больше (когда идут сюжетные повествования). Но в целом он пишет сочинение как собрание изречений.
Или, скажем, Симеон Новый Богослов. У него каждое слово поделено на параграфы. Они более-менее длинные, но какую-то основную мысль выделить из каждого параграфа возможно.
А Ефрем Сирин – поэт. Он не мыслит рублеными фрагментами, он проживает, плачет. Он весь как-то очень глубоко, я бы сказал, витиевато переживает простые вещи во Христе. Поэтому его слова с трудом делятся.
Тем не менее Феофан Затворник от великого почитания Ефрема Сирина решил сделать это в русском «Добротолюбии». Порой читаешь и видишь, что это просто буквально одно слово Ефрема Сирина, просто разбитое на абзацы.
Да, если вы хотите получить какую-то пищу для размышления, это неплохо почитать, тем более что написано все-таки о покаянии. Но если вы хотите прикоснуться к сердцу Ефрема Сирина, возьмите его книги и прочитайте слово целиком, а не в «разделанном» виде, как в «Добротолюбии». Пусть это будет не все собрание сочинений, а просто один томик слов Ефрема Сирина о покаянии, большеформатный или малоформатный. Читайте его периодически – это очень-очень вас вдохновит.
Очень много у Ефрема Сирина слов о Страшном Суде, об антихристе, о последних временах. Это тоже очень неожиданно для святых отцов-аскетов. Я, конечно же, не патролог, но никогда не встречал такого количества слов о последних временах у кого-то из отцов, чьи сочинения читал.
Богословы, святители, конечно, об этом пишут. А вот обыкновенные монахи об этом не писали. А Ефрем Сирин пишет, и очень неплохо. До сих пор многие его откровения тиражируются, хотя часто они и оторваны от его имени. Именно святой Ефрем впервые высказал те или иные пронзительные мысли. Очень глубоко он понимал, ему были открыты последние судьбы мира.
Поскольку у Ефрема Сирина очень много молитвенных воздыханий, его слова, как я уже в прошлый раз говорил, часто пронизаны свидетельствами Священного Писания. Он не просто вставляет цитаты (это, в принципе, есть у всех), а берет образы Священного Писания и начинает их обыгрывать: «Я грешный, как Валаам. Я должен быть как Давид, который читает псалмы, а я как Давид, который идет к Вирсавии».
Вот такие разные ссылки на образы, на известные библейские сюжеты и применение их к оплакиванию самого себя. Это IV век! Великий покаянный канон Андрея Критского будет написан значительно позже. Но Ефрем Сирин первый, кто стал использовать образы Священного Писания для покаянного плача. Андрей Критский только придал этому форму, но заразился он этой идеей от Ефрема Сирина. Вот, пожалуй, и все, что касается биографии.
И дальше, прежде чем приступить к словам, мне хотелось бы начать с конца – не с конца его слов, а с кончины самого Ефрема Сирина. Опять-таки уникальный случай, когда мы впервые в древней истории присутствуем при кончине святого человека. Это стенографическая запись, называется она «Завещание преподобного Ефрема Сирина», она известна на греческом и сирийском языках. Видно, очень давно это завещание распространялось. Рассказывается в нем о том, как умирал Ефрем Сирин и что, умирая, говорил.
Само оно достаточно длинное, всего здесь не прочитаешь. Но в этом его завещании, в этих последних словах, им сказанных, с особенной остротой проявляется двойственность человеческой природы, которая в лице святых людей, подобных Ефрему Сирину, просто вызывает когнитивный диссонанс, шок. Эта двойственность нас просто ломает. Она нас крушит, она как бы разрывает нас – мы не понимаем, что происходит.
Нам просто показывается эта двойственность человека. Она есть во всяком человеке вообще, особенно ярко наблюдается в христианах. Но в святых, достигших совершенства, это настолько острая вещь, настолько невыносимая в своей непонятности, что, сталкиваясь с ней, поначалу просто теряешься, как бы ломаешься и не понимаешь этого. Кто-то, не понимая, уходит, а кто-то удивленно смотрит и говорит: «Вот это да! Так что, бывает?!»
Попробую на примере «Завещания Ефрема Сирина» это показать. Он лежит, умирает от болезни, умирает старым, он знает, что умирает. И вот говорит он такие слова:
Итак, придите, закройте мне глаза; дело решено – должен я умереть, определение сделано – разлучаюсь с вами и не могу остаться.
Клянусь жизнью вашей, ученики мои, и жизнью самого Ефрема, что не сойдет он уже с ложа, на которое взошел, потому что обременен я тяжкой болезнью, и мучения мои невыносимы.
Выставляю вам знамя, ставлю перед вами зеркало и в нем изображение, чтобы вы непрестанно взирали на него и старались уподобляться ему. Ни днем, ни ночью, во всю жизнь свою, никого не злословил я, и с начала бытия своего ни с кем не ссорился. Но непрестанно состязался в собраниях с отступниками. Ибо знаете, что и владетель овец бьет своего пса, который, видя, как волк идет в овчарню, не бежит и не лает на него.
Мудрый ни к кому не имеет ненависти; а если и ненавидит кого, то одного глупого. И глупый также ни к кому не имеет любви; а если и любит кого, то одного глупого.
Клянусь Снисходившим на гору Синайскую и Вещавшим из камня (Исх.17:6), клянусь устами, возопившими: «Элои» (Мк.15:34), и приведшими тем в содрогание всю тварь. Клянусь Тем, Кто продан Иудой и биен в Иерусалиме; клянусь могуществом Заушенного по ланите и величием Приявшего заплевание. Клянусь тремя именами Огня (Втор.4: 34) и Единым Божиим существом и единой волей, что не отделялся я от Церкви, не восставал против Божия всемогущества.
Ну да, нормальный, пафосный стих человека, умирающего в кругу своих учеников. Что тут особенного-то? Пока ничего, наверное. «Ученики, смотрите: я – зеркало, я то-то, то-то делал…» Только разве в клятвах что-то есть? Хотя вообще-то даже и клясться запрещено. И клятвы какие-то странные…
Вы посмотрите: «Клянусь Тем, Кто был в камне на горе Синайской, и Тем, Кто кричал «Элои», клянусь распятым синайским огнем». Или, скажем: «Клянусь Тем, Кто продан Иудой; клянусь Тем, Кто Всемогущ, но Его били по ланите. Клянусь Великим, но Принявшим оплевание. Я клянусь Одним и Тремя в одном существе и единой воле».
Вот это противоречие, антиномия, двойственность: величие и унижение, – и есть преамбула к тому, что мы слышим дальше:
К чему прославлять вам меня, когда посрамлен я пред Господом? К чему ублажать вам меня, когда нет у меня добрых дел? Если бы кто описал вам дела мои, то всякий из вас оплевал бы мне лицо. Если бы зловоние грешника ощущали приближающиеся к нему, то все бы убежали от Ефремова смрада.
Кто со мной во гроб положит шелковую одежду, тот да будет ввержен во тьму кромешную… Грешен я, как уже говорил это. Никто да не ублажает меня.
Богу открыты дела мои, Ему известны беззакония, какие совершил я. Осквернен я нечистотой и непотребством, очернен грехами. Какой нет во мне нечистоты? Какого не лежит на мне греха? Все непотребное, все беззаконное и скверное, как уже сказал я, есть во мне…
Во грехах и в бесполезной суете провел я дни свои; и в день, когда не чаял, пришел и напал на меня тать; в час, когда не думал, подкрался и приблизился похититель, и нудит меня идти отсюда в неведомую мне страну.
«Я грешный, и хуже меня никого нет!» Подожди! Ты же только что говорил, что надо брать с тебя пример. Ученикам ты говорил, что у тебя есть добродетели, от которых ты не отступал никогда. Ты только что говорил: «Возьмите меня, как зеркало, и смотрите!» А сейчас говоришь, что грешник.
Так ты грешник или в тебя смотреть надо?! Ты делал хорошие дела или грехи? Объясни нам, непутевым людям современности! Ты праведник или грешник?! Ты святой или беззаконник?! Ты все-таки от Бога пришел или с Богом воевал? Ты что нас путаешь-то всех?
Если на тебя смотреть, как в зеркало, давай расписывай свои добродетели, мы будем тебе подражать. Тогда все классно, все понятно! Если каешься, что грешник, ну и пошел ты вон, мы не будем с тебя брать пример: беззаконие, грехи, скверна – все в тебе есть.
Ты провел в пустыне лет пятьдесят и говоришь, что день пришел как «тать ночью». Ты же всю жизнь плакал, всю жизнь готовился! Если для тебя этот день пришел «как тать», нам-то что делать? Мы-то ведь и плакать не начинали.
Заклинаю тебя, влекущий меня, не смущай и не мучь меня. А если поступишь со мной по грехам моим, то великий обымет меня страх: и что тогда будет со мной? Когда припоминаю, что делано мной, – содрогаются колена мои и зубы скрежещут; когда привожу себе на память, что совершено мной, – объемлет меня ужас. Ибо вовсе ничего хорошего не сделано мной во все дни мои, вовсе ничего доброго не совершено с тех пор, как произвели меня на свет родители мои.
Ты же только что говорил, что с тебя надо брать пример, а теперь говоришь, что ничего-ничего не сделано!
Вот идет, и близко уже, отводящий меня. Оставь, Ефрем, мудрования свои. Умоляю Тебя, Господи Иисусе, как человек умоляет друга своего: «Не поставь меня ошуюю Себя, когда приидешь!»
Все! Я закрываю книгу, я пошел, ничего не понимаю! Ты называешь Христа другом, как Петр, как Иов, и просишь, чтобы Он не поставил тебя ошуюю?! Ты одновременно испытываешь величайшее дерзновение, называя Его даже не братом, а другом, и величайший трепет, будучи уверенным, что Он может поставить тебя ошуюю?!
Как так? Мы не понимаем, мы же просто люди, обыкновенные люди. Ты нам, Ефрем, объясни, как так? Если Христос наш друг, то все здорово, классно! Друг – он же поймет, простит. Если Он господин, ну да, тогда страшно: может и наказать. Но какой друг, который может наказать? Как тот, кто может наказать, может быть мне другом?
И дальше он расписывает свое видение:
Еще скажу вам нечто. Клянусь жизнью вашей, что это неложно. Когда был я еще весьма мал и лежал на коленях у матери своей, тогда представилось мне как бы во сне, что оправдалось впоследствии. На языке у меня возникла виноградная ветвь, она росла выше и выше и взвилась до неба; на ней явилось бесчисленное множество плодов, и листьям не было счета. Все более и более разрастаясь, раскидываясь и расширяясь в окружность, распростерлась она в целом мире; собирали с нее плоды, и плодов не убывало; даже чем более обирали гроздьев, тем более умножалось число их.
Гроздья – это беседы, листья – это песнопения. Податель сего – Бог. Хвала Ему за благость Его! По благоизволению Своему даровал Он мне это из сокровищницы Своей.
Он говорит о видении, которым прожил всю жизнь, видении о том, что он – один из людей, написавших множество-множество хороших текстов, которые будут петь, учить, читать, молиться по ним и так далее… Вот теперь понятно все.
Нет! Дальше идет: «Это вообще ко мне не имеет никакого отношения. Эта виноградная лоза – Твоя, гроздья – Твои, сокровищница – Твоя. Я тут совершенно ни при чем».
Прощайте, друзья мои, молитесь обо мне, возлюбленные мои. Вот настало время торжнику отправиться в страну свою. Но увы! Имение мое погублено, все сокровища мои расточены.
Вот такой парадокс, такая двойственность: восторг и восхищение от сознания Божественной любви, ужас и плач от сознания своих грехов. И все это в одном человеке переливается одно из другого, все это в нем одновременно присутствует. Именно в святых это одновременное присутствие величайшей близости к Богу, величайших даров Божиих соседствует с острейшим переживанием собственного ничтожества, собственных грехов, собственного уродства и безответственности.
Вот эта двойственность человека заслуживает особого внимания. И это то, чего мы своим плотским умом никак не можем понять.
Записала Инна Корепанова
Нравится:
TweetМы в контакте
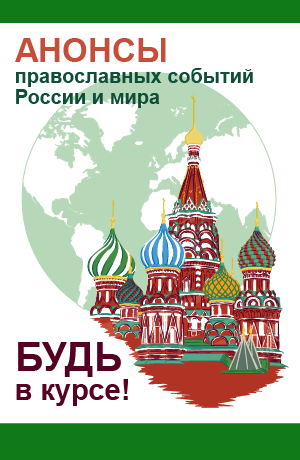
Последние телепередачи
-
 24 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
24 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
Беседы с батюшкой. Священник Михаил Дудко. 23 апреля 2024
-
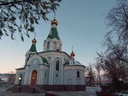 24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
Литургия Преждеосвященных Даров 24 апреля 2024 года
-
 23 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
23 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 24 апреля
-
 23 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
23 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 24 апреля. Мученики Прокесс и Мартиниан
-
 23 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
23 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 24 апреля. Воскреснет брат твой
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







