Церковь и общество. Беседа с поэтом Олесей Николаевой. Часть 1
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
– Добрый день. Сегодня в гостях у нашей передачи, а вернее, мы в гостях у Олеси Николаевой. Все вы ее знаете, она не раз выступала на православных и, если можно так выразиться, общегражданских телеканалах, а сейчас мы будем говорить о многих интересных вещах, связанных с творчеством. Напомню, что Олеся Николаева – поэт, прозаик, эссеист, профессор Литературного института имени Горького. Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Хотелось бы Вас немножко помучить, потому что я знаю, что Вы постоянно даете интервью и очень много уже о себе рассказывали, но многие наши телезрители этого не знают. Поэтому я бы предложил немножко поговорить о Вас и о Вашем творчестве. Известен факт, что Вы начали писать стихи в семь лет! Как это произошло? Что это за чудо такое?
– Вы знаете, меня совершенно завораживали стихотворные размеры, ритмы. Между прочим, сочинять я начала даже немножко раньше, потому что помню, как мы сидели с моей бабушкой, я еще не умела писать и что-то ей диктовала, а она за мной быстренько старалась записывать. Потом эта страсть к стихосложению сменилась у меня любовью к крупным жанрам. Как раз в семь лет я начала писать эпопею из жизни английской аристократии XVII века, что мне было интересно, и вот это, кстати, примечательно. В центре повествования у меня стояла английская аристократическая семья с множеством детей. По возрасту дети различались между собой в два, в три месяца, то есть все они были почти ровесники.
– Даже не погодки…
– Нет! И они все были мои ровесники. Мне неинтересно было писать про детей более старшего возраста, которым было, например, тринадцать лет или больше, но по возрасту они как-то группировались вокруг меня.
– А почему Англия? Что повлияло? Какая-то сказка?
– Я училась в английской школе. И вот я очень тщательно описывала каждого персонажа: внешность, черты характера – вот это я выписывала. А поскольку персонажей было много, то текст получался объемный. И дальше мне уже было неинтересно. То есть мне было интересно зафиксировать свое внимание на каждом персонаже, а что они дальше делают, не важно. Я им давала имена: это было наречение каждого, и это было тоже очень интересно, а потом я это забрасывала и начинала новое подобное повествование.
– Можно сказать, что Вы росли в особенной семье, скажем так, элитной? Или это не совсем правильно? Английская спецшкола…
– Да-да. Но английская спецшкола была тоже своеобразная, потому что, с одной стороны, это была очень хорошая школа – 5-я на Кутузовском проспекте…
– Ну, это была одна из самых лучших школ!
– С одной стороны, там учились дети членов политбюро. Например, я училась в школе в одно время с внучками Суслова, Брежнева, вот такого рода были дети. С другой стороны, там было очень много иностранцев, потому что вокруг были дома, где они жили. Но в то же время там учились и дети из микрорайона, жившие в коммуналках. Кстати, у нас совершенно не было никаких противоречий, сословных, национальных, никто не смотрел, кто богаче, кто беднее, никто ничем не хвастался – это было поразительно. Обстановка была доброжелательная и совершенно лишенная таких неприятных моментов. То же самое было в моей семье.
– Если Вы учились в 5-й спецшколе, православие в Вашей семье существовало?
– Мой папа прекрасно знал Священное Писание и замечательно рассказывал библейские сюжеты. Я с этим столкнулась в семь лет, когда училась в первом классе, и в зимние каникулы он меня повез с собой в командировку в Ленинград. Он повел меня в Исаакиевский собор, который тогда был музеем с маятником Фуко, в Русский музей, Эрмитаж, где я впервые увидела картины на библейские сюжеты, иконы.
– В Русском музее потрясающая коллекция икон.
– Оказалось, что папа все знает в тонкостях: и про Юдифь, и про Сусанну и старцев, даже такие сюжеты, которые вроде бы второстепенные. И вот он мне это все рассказывал. Меня, конечно, поразило первое, что мы увидели, – барельеф над входом в Исаакиевский собор «Избиение младенцев». Папа мне рассказал эту историю. На меня это произвело невероятное впечатление!
– Убивают детей…
– Да, да, младенцев! Мы зашли в Исаакиевский собор, там были еще и картины и иконы. Когда я увидела Христа распятого, то, считаю, с этого момента я стала христианкой.
– Предлагаю прыгнуть во времени. Когда уже в юношеском возрасте Вы поступили в Литературный институт, то пошли на семинары к Евгению Винокурову. Нельзя сказать, что Евгений Винокуров – очень талантливый поэт, нельзя сказать, что он особо религиозный поэт. Почему Вы выбрали его? И почему потом критика стала называть Вас поэтом с религиозным подтекстом?
– Во-первых, я его не выбирала, просто поступающих в определенный год записывали на конкретный семинар. Но я считаю, что это было промыслительно, и очень рада, что училась у Евгения Винокурова. Время было такое, когда люди моего поколения чувствовали, что культура – это единственная сфера, в которой можно как-то духовно выжить. И был интерес к русской культуре, к русской религиозной мысли. Я помню, что наравне с какими-то диссидентскими книгами мы очень жадно читали «Царство Духа и царство кесаря» Бердяева, «Кьеркегор и экзистенциальная философия» Льва Шестова, Константина Леонтьева. Надо сказать, что Евгений Михайлович тоже с большим увлечением читал эти книги. Этим он отличался от официозных деятелей советской литературы.
– Вы окончили Литинститут и сейчас профессор этого учебного заведения.
– Да, в следующем году будет уже 30 лет, как я преподаю там.
– Ваша первая книга вышла в 1980 году. Это был поэтический сборник «Сад чудес». А в Союз писателей тогда еще СССР Вы вступили в 1988 году. Я помню, был знаменитый случай, когда приняли двадцать молодых литераторов…
– Нет, я вступала не в этот прием, по-другому. Во-первых, эта моя книжка вышла в престижном издательстве «Советский писатель». И у меня уже были кое-какие публикации, например я уже несколько раз печаталась в «Новом мире». Поэтому я подала заявление в Союз писателей. Меня не приняли, потому что тогда шла какая-то кампания против писательских детей, а я же писательский ребенок, и меня на этой комиссии «зарубили». В 1986 году у меня вышла вторая книга, которая называлась «На корабле зимы», и меня стали очень много печатать, выходили огромные подборки. Тогда как-то возобновился процесс моего вступления в Союз писателей.
– 1988 год был более лоялен по сравнению с предыдущими. Многие из тех, кого придерживали, как Вас, смогли вступить в Союз писателей.
– Да, в 1988 году меня наконец приняли.
– Мы Вас представили как поэта, прозаика и эссеиста. Существуют разные жанры литературы. Все писатели разные: прозаики, поэты, драматурги, переводчики, писатели, создающие детскую литературу (это совершенно особенное направление). Вы причисляете себя к поэтам, прозаикам и эссеистам. Почему? Мне кажется, что Вы пишете еще много другого. Разве для детей Вы не пишете?
– Нет, для детей я не пишу. Я очень много в своей жизни переводила венгерских, македонских, польских, грузинских поэтов. У меня даже выходили целые переводные книжки. Однако я не переводчик.
– Почему?
– Потому что я начинала переводить и все переиначивала на свой лад. Например, я переводила поэтов Тагу Мебуришвили и Григола Джулухидзе, и получалось так, что это, по крайней мере, диаконы – настолько религиозными становились их стихи. То есть я туда вносила то, чего у авторов, может быть, и не было. С другой стороны, если мы посмотрим, что сделали русские поэты, которые просто вынуждены были иногда уходить в художественный перевод, – они своими переводами практически создали национальные литературы. Например, Отар Чиладзе говорил мне по поводу Симона Чиковани, что в Грузии нет такого поэта, а в России есть, потому что его переводил Пастернак. И эти стихи Симона Чиковани настолько изумительны, что он для нас существует как грузинский поэт, а в оригинале грузины не видят в этом какого-то особого художественного смысла.
– Олеся, что, по Вашему мнению, Вы создали лучшего в каждом из жанров литературы: в поэзии, прозе, эссеистике? А еще Вы критик, между прочим.
– Нет-нет, я принципиально не критик.
– Но критические статьи у Вас выходили.
– Я для себя решила, что не буду критиком, потому что рядом со мной была Татьяна Бек, с которой у нас были очень хорошие отношения, она поэт, но при этом писала рецензии и критические статьи, и я видела, как она запуталась в этом. Понимаете, если Вы напишете о ком-то критическую статью с некоторыми замечаниями, это тут же обратится против Вас, так как к Вашим художественным текстам начнут предъявлять те же самые претензии. Поэтому она стала писать только хвалебные отзывы, а это уже совершенно лишается какого-либо смысла.
– Это уже не критика, да.
– Поэтому я и решила, что я не критик. А какие из моих произведений лучшие, мне очень трудно сказать. Есть то, что я просто больше люблю.
– Давайте этот критерий выберем.
– Я люблю несколько своих поэтических книг. «На корабле зимы» – это моя вторая книга, где уже есть та новая поэтика, которая в 1986 году, когда эта книга вышла, была только моей. Потом, как я считаю, она оказала влияние на поэзию, потому что, например, уже в середине 90-х только ленивый не писал этим акцентным стихом. Я сделала совершенно невозможные вещи для поэзии того времени. Если книга вышла в 1986 году, значит, я писала ее в первой половине 80-х. Там у меня появляются герои, у этих героев есть имена, в этих стихах есть юродство, очень много диалогов, и написано все таким расшатанным стихотворным размером – это то, что называется «акцентный стих»: с большими паузами, цезурами, с переменой ритма: он то убыстряется, то, наоборот, растягивается. А потом уже, к концу 90-х, это было воспринято, потому что подумали, что так легче писать. И мне пришлось с этой территории уходить, потому что мне там стало уже неинтересно, я уже выглядела как эпигон своих эпигонов – было такое выражение у замечательного Георгия Гачева.
Следом за книгой «На корабле зимы» вышла книга «Здесь», которую я тоже люблю… Вы знаете, я вообще люблю свои поэтические книжки, правда. Вот сейчас думаю, какую люблю больше … А потом вышла «Amor Fati», которую с любовью печатал мой хороший друг, замечательный поэт Николай Кононов, печатал в начале 90-х, когда книги вообще не издавались, и эта вышла в его издательстве «Инапресс». Она была на такой специальной грубой сероватой бумаге.
– Такое библиофильское издание.
– Да-да. Вот эту книгу я тоже люблю. Потом мою книгу издавал митрополит Лонгин в своем издательстве на Московском подворье Троице-Сергиевой лавры. Это была поэтическая книга, которая была выпущена церковным издательством. Она называлась «Апология человека» и была очень красивая
– Про нее я хотел задать Вам специальный вопрос, потому что это, на мой взгляд, из ряда вон выходящее произведение.
– Там была поэма в прозе «Апология человека» и еще стихи. Короче говоря, я, конечно, в каждую книгу много чего вкладывала, и мне кажется, что это должно передаться читателю. Сейчас у меня вышла новая книжка «Средиземноморские песни, среднерусские плачи», и она мне тоже нравится, хотя я чувствую, что нужно уже не следовать найденным поэтическим ходам, а искать что-то интонационно новое.
– Вы вдруг создаете глобальное духовно-философское произведение. Трудно сравнивать: это разные вещи, но чем-то оно напоминает «Исповедь» Толстого, который откровенно рассказал о себе. И вот Вы стали откровенно говорить о смерти человека: что с ним происходит на третий день, на девятый, на сороковой и так далее. Это довольно сильно. В связи с этим такой вопрос – человек умирает или он все-таки кончается? Потому что говорят «скончался», а в корне этого слова лежит слово «кон», означающее «начало». То есть когда мы говорим «конец», это значит «начало». У Вас употребляется слово «умер». Может быть, правильнее говорить «скончался»?
– Знаете, все-таки Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Когда мы говорим «умер», это означает, что человек прекратил свое земное существование. И конечно, это не окончательный приговор человеку, дальше его ждет какая-то новая судьба, какое-то новое определение. Человек скончался, то есть для него началось что-то другое, – это, конечно, очень интересно. Вообще предметом литературы является человек. Вглядывание в человека – это, пожалуй, самое главное, что меня привлекало с детства, недаром я давала своим персонажам имена, описывала их внешность, черты характера, привычки, другие особенности, и дальше мне было уже не так интересно. Самым интересным была психология человека, его жизненный выбор.
– Вглядывание в человека или в саму себя?
– И в себя, конечно, но и в другого человека.
– Все-таки творчество – это исповедь или проповедь?
– Творчество – не исповедь и не проповедь, это нечто другое – это создание новой реальности. Проповедь строится из каких-то элементов, которые нам уже известны из Евангелия, из житий святых…
– То есть опирается на какой-то источник…
– Безусловно. Проповедь есть некое конструирование этого опыта, подкрепленное своим личным экзистенциальным познанием. А творчество – это все-таки создание новой реальности, где не совсем земные законы.
– Исповедь тоже основывается на каком-то опыте – на том, что произошло.
– Я не очень верю в исповеди, которые происходят вне церковных стен и обнародуются. Мы же читали «Исповедь» Руссо – понятно, где он лукавит и какие системы защиты выставляет. И в работе духовника, и, может быть, в работе психоаналитика очень важно разрушить эти системы психологической защиты человека, важно дойти до того, что он в себе защищает. Ведь человек может разоблачить какой-то один свой грех, но будет скрывать другой, не будет подпускать к этой черте, будет ее защищать – может быть, за ней нечто, не совсем ужасное, но то, что он будет защищать. И вот добраться до того, что он в себе защищает, – это значит получить ключ к его глубинам. Вот это очень интересно.
– Очень необычный ответ. Сейчас я объединю два вопроса в один. Ирина Роднянская назвала Вашу эстетику «эстетикой средневекового реализма», где всякое жизненное обстоятельство места и времени высвечено по законам обратной перспективы. Обратная перспектива – это закон иконописи. Намеренно говорю «ико́нописи», а не «и́конописи», считаю, что это правильно. И к этой цитате из Роднянской у меня присовокупляется такой вопрос: а что такое вообще религиозный или православный поэт? Допустимо такое словосочетание – «православный поэт»?
– Любой поэт религиозный. Нерелигиозный поэт – это какой-то абсурд, потому что это же безумие – сидеть и что-то такое говорить размером и в рифму, как говорил Смердяков: «Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с?» То есть это явно какое-то измененное, приподнятое над земным мышлением состояние. Что такое метафорическое мышление? Это создание новых связей. То есть мы освобождаемся от земных причинно-следственных связей и переходим в другую сферу, может быть, в сферу свободы. Я считаю, что творчество – это процесс освобождения, настоящая свобода.
И думаю, что Ирина Бенционовна Роднянская это точно угадала, потому что, действительно, за каждым земным обстоятельством, за земными узлами отношений я пытаюсь разглядеть, что происходит там – в ноуменальном мире, зачем это происходит и на что указывает. И любой поэт делает то же самое. Поэтому я думаю, что в этом смысле любой поэт религиозен. Что касается православия, то я бы немножко средуцировала и сказала так: все, что получает толкование в этом православном религиозном сознании, может быть нами принято, мы все можем понять по-своему. Вот, например, роман «Анна Каренина» предваряет эпиграф Мне отмщение, Аз воздам, и мы знаем из трудов святых отцов, что неупорядоченная душа в самой себе несет наказание. Поэтому мы видим, что на самом деле это роман о страшном грехе, который разрушает человека еще до того, как он претерпевает физическую смерть.
Так что мы все это можем перевести в ключ своего понимания. Я встречала такие ригористические суждения – «Зачем мы будем читать романы о грехе?» Не могу с этим согласиться. Ведь тут дело не в самом содержании, а в том, что получается в результате этого. Ведь все Священное Писание – это история человеческих грехопадений. И мы читаем про пророка Давида, который сначала согрешил с Вирсавией, а потом еще послал на смерть ее мужа, своего верного воина, благороднейшего Урию, повелев поставить его в том месте, где его наверняка убьют. Мы видим, как один грех приводит к другому, поэтому мы вычитываем тот божественный смысл, который вложен в нашу жизнь и в те события, которые с нами происходят.
– Спасибо, что мы немножко поговорили о Вас. На первый взгляд эта беседа может показаться хаотичной, но она приоткрывает какие-то интересные стороны Вашего внутреннего мира. Надеюсь, что нашу беседу мы продолжим. Всего Вам самого доброго.
– Вам тоже. Спасибо.
(Продолжение следует).
Ведущий Константин Ковалёв-Случевский, писатель
Записал Игорь Лунёв
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Четверг, 25 апреля: 09:05
- Воскресенье, 28 апреля: 02:05
- Воскресенье, 28 апреля: 14:05
Мы в контакте
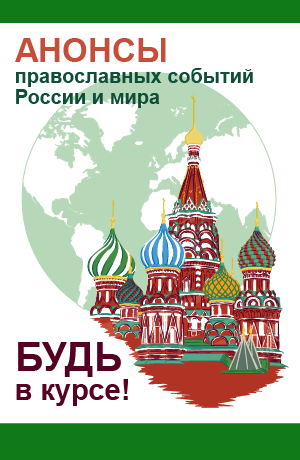
Последние телепередачи
-
 24 апреля 2024 г.
Прогноз погоды
24 апреля 2024 г.
Прогноз погоды
Прогноз погоды на 25 апреля 2024
-
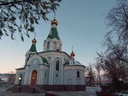 24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
Литургия Преждеосвященных Даров 24 апреля 2024 года
-
 23 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
23 апреля 2024 г.
«Беседы с батюшкой»
Беседы с батюшкой. Священник Михаил Дудко. 23 апреля 2024
-
 23 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
23 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 24 апреля
-
 23 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
23 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 24 апреля. Мученики Прокесс и Мартиниан
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …








