Церковь и общество. Беседа с поэтом Мариной Кудимовой. Часть 1
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
– Добрый день! Сегодня у нас в гостях необычный человек. Можно сказать так: у нас в гостях Поэт с большой буквы. Странно, но в нашей передаче редко затрагиваются темы современной поэзии, русского языка и вообще поэзии, которую иногда некоторые люди называют православной. О православной поэзии, о поэзии вообще, о современной литературе хотелось бы поговорить с нашим гостем – Мариной Владимировной Кудимовой. Мы с Вами давно знакомы, поэтому по-писательски (или отчасти по-журналистски) я буду обращаться к Вам просто по имени – Марина. Потому что всем известен поэт Марина Кудимова.
Вы член Союза писателей с так называемых советских времен. У Вас выходили книги еще на заре 70–80-х. Я помню много споров вокруг Вашей поэзии. И помню, что Вы были одним из реформаторов русского языка; или тем человеком, который стремился к работе над русским языком. Помню, как писала Белла Ахмадулина: я последние годы много работаю над языком. Но я не видел, чтобы она особенно работала, потому что она всегда была в своем стиле. А вот Вы работали по-настоящему, это было видно в связи с прогрессом во времени.
Вы помните тех писателей и тот писательский мир. Сейчас писательский мир сильно изменился. Какое-то время, в 90-е годы и далее, Вы долго, чуть ли не больше пятнадцати лет, почти ничего не писали, вернее – не публиковали, не видно было изданий. Что случилось? В каком состоянии писательский мир сегодня и чем отличается от того, который был раньше?
– Во-первых, я не думаю, что на свете есть какой-то серьезный писатель, который не испытывал бы кризисных явлений. Наступает момент, когда очень многое просто нужно передумать и в себе переделать, перевернуть. По-моему, это нормальный процесс. Мы не знаем, что было бы с Пушкиным, скажем, после сорока лет; возможно, и он бы почувствовал, что нужно многое менять.
– Получил бы должность повыше и перестал писать.
– Да, стал бы действительным тайным советником. Мы не знаем этого, не можем знать. Но о себе мы кое-что знаем, хотя тоже не очень много.
Наступил момент, когда я почувствовала колоссальную девальвацию книги, книжной культуры. И поэзии в частности. То есть дела, которому я по мере сил служила с девяти лет (в девять лет я написала первое стихотворение). Это заставило замолчать на публичном уровне. Конечно, я не прекращала писать, потому что это вообще очень опасно; долгие перерывы в творчестве опасны. Это как если музыкант не будет играть гаммы: у него просто рука затвердеет и он не сможет исполнять, скажем, Шопена или Листа. Так и здесь: слово требует постоянного упражнения, слово требует постоянного усилия. Действительно, начали происходить, на мой взгляд, абсолютно пагубные процессы. Прежде всего я бы сказала так: я поняла, что в литературе снимается вопрос иерархии, то есть нет ни первых, ни вторых, ни великих, ни замечательных.
– Ни талантливых, ни бездарных.
– А уж бездарных вообще нет. Потому что первое, что исчезло из литературного обихода, – слово «дар». А это загадочное, таинственное слово, на мой взгляд, – то главное, что соединяет творчество и религию. Потому что «дар» – это подарок, это нечто неопределимое в рациональных терминах: нельзя объяснить, что это такое, откуда это взялось, кто тебе это вручил. Или, может быть, это каким-то самозваным способом получено; этого объяснить нельзя.
– Еще есть слово «благодарение» – благой дар.
– Да. Благой, то есть добрый.
– По-гречески, кстати, «евхаристия», то есть то, чем мы занимаемся в Церкви по воскресеньям.
– Совершенно верно, здесь очень много взаимосвязей. И это первое, что исчезло. То есть это просто удалили из литературного лексикона. Для меня это было очень болезненно; не по самолюбию удар, я поняла, что идет чудовищный пересмотр шкалы литературных ценностей и что Пушкин или Достоевский вполне могут быть приравнены к какому-нибудь современному щелкоперу, который вчера вообще сел за компьютер и прочел, скажем, брошюру, как написать бестселлер.
– Да, таких брошюр сейчас много.
– Очень много. Это заставило меня на довольно длительное время уйти из публичного пространства, я перестала издавать книги. К тому же мне показалось, что приходят новые технологии, которые нанесут по книге очень серьезный удар. Так оно и произошло.
Вспомним великий роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», знаменитый диалог аббата Фролло со студентом: студент – поклонник книгопечатания, новой эпохи, эпохи станка Гутенберга, а аббат Фролло – как бы сегодня сказали, консерватор. Он говорит: уцелеет только камень, только архитектура, а ваша книга, ваша бумага – это все равно непрочный материал: одна искра – и все сгорит.
Наше с Вами поколение, собственно, пережило такой же процесс – это процесс перехода на компьютерные технологии. И я стала думать о том, что ведь лесоповал, благодаря которому существует бумажное производство, целлюлоза, – дело-то не богоугодное, прямо скажем, пагубное, особенно в том варварском изводе, в котором это происходило в 90-е годы. Я подумала: ну и хорошо, будем писать на компьютере.
– И никому не вредить.
– Да. И не вредить природе, и не заставлять узников (мы же с вами прекрасно знаем, кто работает на лесоповале, это не секрет) применять свой рабский труд. Мне показалось, что это очень здорово. Через несколько лет я поняла, что все не так просто и что эпохи всегда и все – и эпоха аббата Фролло и того прогрессивного студента, который ратовал за распространение книгопечатания, и наша эпоха – наслаиваются друг на друга, существуют в одном временном отрезке, что книжная культура никуда не денется. И в какой-то момент я поняла, что ее нужно спасать, ее нужно поддерживать и не полностью отдаваться этому новому веянию и новому способу письма.
– С другой стороны, Интернет совершил некоторую революцию в качестве литературы, потому что его заполонило огромное количество графоманов. Есть такие сайты (не будем делать им рекламу), печатаясь на которых, люди считают себя великими поэтами. Потому что каждый россиянин, который понимает, что такое рифма, и может найти рифмованное слово, считает, что он может написать стихи. И это ведь катастрофа тоже. Люди потеряли чутье профессионализма.
– Это близко к катастрофе, но это катастрофа абсолютно ложно понятого демократизма: в литературе и в творчестве вообще никакой демократии нет и никогда не было; это вещь очень жестко иерархичная. Это процесс, который во многом саморегулирующийся, который во многом подравнивает: ты думаешь про себя одно, а читатели думают про тебя совершенно другое, а критики еще что-то про тебя думают и так далее. Можно не обращать на это внимания; можно, наоборот, следовать все время в этой волне: ах, про меня сказали то-то, про меня сказали это... Опять-таки это вопрос выбора своего пути.
Интернет, на мой взгляд, является одним из чудес современного мира, потому что это достаточно удобный и достаточно приемлемый путь к знаниям, к их доступности для каждого человека без исключения, но творчество не может быть доступно каждому человеку именно потому, что оно определяется вот этой таинственной категорией дара. А кто дает эту грамоту, эту лицензию, где написано: дана такой-то, что она является великим русским поэтом? Нет таких грамот.
– Дух дышит где хочет.
– Конечно. С одной стороны, я считаю, что никто не вправе запретить человеку писать стихи, рисовать картины; это абсурдно, не правда ли? Но если человеку не объяснить, что с ним не так и почему он, условно говоря, не Пушкин... А для этого есть школа, есть выучка и есть великие в литературе, на мой взгляд, отношения «учитель и ученик», которые были всегда. Вспомните, что написал Жуковский Пушкину на своем портрете: победителю ученику от побежденного учителя. На мой взгляд, это совершенно беспрецедентный случай великодушия, это что-то близкое к душевному подвигу. Почему? Очень трудно признаться, что ты побежденный учитель.
– Как бы Вы могли обратиться к какому-то молодому поэту, который вдруг обратился к Вам за помощью? И что бы Вы сказали ему сегодня, чтобы он выжил в этом мире огромного потока непонятной (невозможно ее даже прочитать) литературы?
– Начнем с того, что я очень много занимаюсь с молодыми. И в течение десяти лет была председателем жюри очень известного в литературном мире проекта «Илья-премия», посвященного памяти юного стихотворца Ильи Тюрина, погибшего в 19 лет от несчастного случая. Его родители учредили эту премию, и я ее возглавляла. Несмотря на то, что проект этот закончился в силу определенных обстоятельств, я продолжаю очень много заниматься с молодыми и могу сказать, что не обделена их вниманием. Каждый из них шлет мне рукописи, и что интересно, мало кто спрашивает: «Скажите, чем мне заняться, как мне подучиться, что мне исправить?» Они все говорят: «Напишите мне, пожалуйста, предисловие к книге (или послесловие)».
– Или рецензию.
– Да, или рецензию на вышедшую книгу.
– То есть они считают себя уникумами.
– Скажем так, они считают себя равными среди равных, и никаких сомнений по этому поводу не испытывают. Это поколение тридцатилетних или приближающихся к этому возрасту. Согласитесь, что возраст довольно зрелый. Опять-таки если взять эпоху Пушкина, то, скажем, А.С. Грибоедов в тридцать пять лет, совершив на дипломатическом поприще выдающиеся деяния, уже, к сожалению, погиб (был убит в Тегеране). И Пушкин недалеко от него по возрасту ушел, а считал себя очень зрелым мужем.
Эти молодые люди, среди которых очень много талантливых, по-настоящему способных людей, считают, что период учебы остался где-то в школе. А настоящий поэт учится всегда, всю жизнь. Если вспомним Пастернака, то наверняка знаете, что, уже имея мировое признание, уже в возрасте старше шестидесяти лет он буквально отказался от всего своего молодого творчества, заявив: я это не приемлю, мне не нравится то, что я писал тогда. Это ведь тоже своего рода подвиг. Ну как не нравится? А всем нравится, все читают. Но как сказал тот же Пушкин в отношении автора: «Ты сам свой высший суд».
– Многие по десять раз все переписывали.
– По десять и по двадцать. Если вспомнить Льва Толстого и несчастную Софью Андреевну, она одиннадцать раз переписала «Войну и мир»! Тоже памятник поставить можно.
К сожалению, сегодня периода ученичества практически нет. Не важно, где человек при этом получает образование: в Литературном институте, или в МГУ, или в провинциальном вузе, или в каком-то колледже, – результат абсолютно одинаковый. Они считают, что пришли уже сложившимися авторами, остальное – дело техники.
– То есть они талантливы априори.
– Напечатать книжку сегодня, опять-таки, может любой желающий. Любой человек, если он поставит себе цель, может опубликовать свои ресторанные счета, грубо говоря, – и будет книжка. В этом смысле процесс литературной девальвации продолжается. Пушкин учился всю жизнь. Лермонтов выбрал у себя тринадцать стихотворений для первого сборника и две небольшие поэмки. Можете себе представить уровень взыскательности и строгости к себе?..
– Но это несопоставимое отношение к труду и творчеству.
– А почему несопоставимое? А потому что, повторяю, это абсолютно ложная запущенная волна творческого демократизма, абсолютно неуместного. Все должно быть уместно. Есть системы ценностей, уместные в одной сфере (например в политике), и совершенно неуместные в другой. Например, в литературе.
– Пастернак говорил: творчество и притворство. Две такие разные вещи.
У меня такой вопрос сразу же возникает. Вы все-таки вернулись и начали не только интенсивно работать, но и публиковать одну книгу за другой в последнее время. Таким образом, у Вас возникло ощущение (или я ошибаюсь, и Вы меня сейчас поправите), что литература все-таки возрождается, что-то происходит, какой-то новый процесс, новый виток? Я знаю очень многих (даже наших общих с Вами знакомых) литераторов, которые ушли в православие, например; кто-то стал священником. И не только литераторов, но и деятелей культуры, актеров, художников: кто-то ушел в монастыри и так далее. А в последнее время эти же люди вдруг вернулись обратно и начали заново играть на сцене или писать книги, издавать их. То есть какой-то новый виток возникает? Есть какое-то ощущение просвета?
– Знаете, скорее все-таки ощущение необходимости продолжения процесса. Ощущения просвета у меня еще далеко нет. Состояние нынешнего гуманитарного образования, прежде всего (я не отвечаю за математику и физику), находится на пещерном уровне, на мой взгляд. Эти бесконечные споры, например, о школьной программе по литературе. Господа, дорогие мои, о чем спорить? Есть русская классика, апробированная веками. Я серьезно не понимаю предмета спора. Что-то случилось с Пушкиным, или с Тургеневым, или с Гончаровым, или с Львом Николаевичем Толстым? Их тексты как-то переделались, переформатировались? Почему сегодня возник спор об их изучении? Почему вдруг пришло в голову, что современному молодому человеку, ученику старших классов, недоступен роман «Война и мир»?
– Есть тенденция к адаптации. Вы знаете, что одна известная вдова переписала книгу своего мужа в адаптированном виде для школы.
– Да.
– Я не хочу сказать, что это плохо, но эта тенденция к адаптации серьезного существует.
– На самом деле это тенденция к тотальному упрощению. Всем нам известно, мы живем в эпоху потребления, нравится нам это или нет. Это эпоха, собственно говоря, одноразовых функций: одноразовых предметов, которыми мы пользуемся; одноразовой еды, так называемого фастфуда. И, к сожалению, это все переносится и в сферу творческую: одноразовая литература, одноразовые песни, одноразовые спектакли и так далее. Это то, что один очень хороший писатель назвал так: «сумерки амбиций».
Мне кажется, разница заключается в том, что человек XIX века, золотого века, не мыслил иначе, как написать выдающееся произведение, вложить туда великий замысел, величие человеческой (не своей собственной, конечно, грешной) души, то есть замысел Божий о человеке. Как можно представить, чтобы Лев Николаевич Толстой захотел написать какую-то небольшую повесть о романе одной девочки из барской семьи с одним молодым человеком, офицером, которого потом убили на Наполеоновской войне. А она чуть было ему не изменила с другим молодым человеком...
– Или анекдотец написать какой-то.
– Да, страничек на пятнадцать. Конечно, величие замысла «Войны и мира» заключается в том, что это мысль народная, это мысль, охватывающая не просто всю эпоху, а охватывающая абсолютно все слои (человеческие, религиозные, материальные, какие угодно) той эпохи в русском пространстве, в пространстве России. Поэтому этот роман вечный. Почему сегодня он непонятен юношам и девушкам, выросшим в эпоху фастфуда, можно понять и даже объяснить. Но вопрос в том, кто заставит их сделать это усилие и каким способом.
Точно в такой же степени это касается и собственного творчества: то, что ты пишешь, ты зачем пишешь? Чтобы о тебе узнали, какой ты великий и прекрасный? Или чтобы поделиться с остальными людьми чем-то в себе сокровенным, тем, что есть только в тебе и больше ни в ком? Вот, на мой взгляд, в чем проблема.
Когда литература и искусство превращаются в соревнование самолюбий и больше ничего там нет, – результат плачевный. Потому что когда мы жалуемся сегодня на потерю обществом интереса к чтению, мы забываем добавлять одно местоимение: к чтению нас, живущих сегодня. Да, там бывают очень серьезные досадные ошибки, потому что в этот нерасчленимый сонм непонятно что и непонятно для кого пишущих, безусловно, попадают жемчужные зерна настоящих талантов. Они в результате (у меня нет в этом никаких сомнений) все равно пробьются и будут узнаны в этой массе. А остальных – да, люди не хотят читать. Я думаю, это самый главный ответ.
– Есть такое понятие: православный писатель (православный поэт, православный художник, православный актер и так далее). Как отличить православного писателя от обычного, мирского?
– Опять-таки никто не выдаст вам справку, что то, что вы пишете, полностью соответствует православной догматике, катехизису и так далее. Творчество – это процесс душевный, прорывающийся к духовному в своих вершинах далеко не всегда. Душа человека, как известно, и юдоль скорби, и сосуд греха. И, безусловно, она принимает все духовные сигналы и отражает их так, как ей доступно. Более того, поэт может быть полным агностиком, вообще неверующим человеком и пользоваться всем арсеналом православия как культурным знаком. Может быть такое? Да. Например, Варлам Шаламов – ярчайший пример агностика. Он всю жизнь говорил о том, что неверующий, но, будучи сыном и внуком православных священников, естественно, абсолютно свободно ориентировался в Священном Писании и Предании и использовал в своих произведениях все аллюзии на Писание и Предание в качестве культурных знаков для расширения смыслов, семантики своих произведений. При этом он никогда не говорил, что он – православный писатель.
– Добавлю сюда Есенина, который тоже никогда об этом не говорил. Но он знал наизусть Псалтирь, и эта Псалтирь прямо проходит сквозь его языковую ткань.
– Конечно. Поэтому, на мой взгляд, совершенно неправомочно и тоже очень сильно попахивает в ряде случаев самозванством самопредставление, самопрезентация: я – православный поэт (или православный писатель). Это должны сказать другие.
– Согласен.
– Творчество ведь процесс очень сложный, там очень много бессознательного, иррационального. Это ведь не то что человек обдумывает все от первой до последней строчки, а потом записывает; это стихия...
– Это не бухгалтерия.
– Нет. Это огромная-огромная стихия. Как Ахматова о Пушкине написала: «”Онегина” воздушная громада, как облако, стояла надо мной». Это действительно такое облако, таинственное.
Никто ведь не знает до сих пор происхождение вдохновения. Мы говорим: поэт пишет по вдохновению. А что это такое? Откуда оно посылается? Как оно приходит к человеку? Никто не знает этого: ни один психолог, ни один теоретик.
Как же мы можем давать себе такие эпитеты? Путь познания продолжается до смертного часа, до последней минуты. А мы говорим: а мы уже православные писатели, любите нас вот такими. На мой взгляд, это очень самонадеянно.
– Марина, я предлагаю продолжить эту тему в следующей нашей передаче; наше время истекло. Я понимаю, что сам предмет требует многочасового обсуждения. Вы благодатный собеседник. Спасибо Вам огромное за эту беседу о литературе на современном этапе. Мы затронули какие-то штрихи, как говорил Гарсиа Лорка, намекнули, дали возможность задуматься, не более того. Но, надеюсь, продолжим и дальше.
Ведущий Константин Ковалев-Случевский
Записала Нина Кирсанова
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Четверг, 25 апреля: 09:05
- Воскресенье, 28 апреля: 02:05
- Воскресенье, 28 апреля: 14:05
Мы в контакте
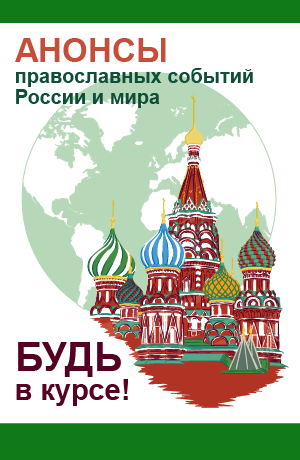
Последние телепередачи
-
 24 апреля 2024 г.
«По святым местам» (Екатеринбург)
24 апреля 2024 г.
«По святым местам» (Екатеринбург)
По святым местам. Покровский храм Камень на Оби
-
 24 апреля 2024 г.
«Первосвятитель»
24 апреля 2024 г.
«Первосвятитель»
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 5-ю Великого поста
-
 24 апреля 2024 г.
«Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
24 апреля 2024 г.
«Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
«Православный на всю голову!». О прощении грехов
-
 24 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
24 апреля 2024 г.
«Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко
Благая часть. 24 апреля 2024
-
 24 апреля 2024 г.
«У книжной полки» (Екатеринбург)
24 апреля 2024 г.
«У книжной полки» (Екатеринбург)
У книжной полки. Лекарство для души
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …








