Плод веры. Директор Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Часть 2
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
(Расшифровка выполнена с минимальным редактированием устной речи)
– Существует такое мнение, что каждый ребенок должен жить в семье.
– Разделяю.
– При этом статистика и примеры, приводимые нашими официальными органами власти, которые занимаются проблематикой в том числе жестокого обращения с детьми в семьях, говорят о том, что не во всех семьях дети могут воспитываться. Где та грань, когда в том числе органы опеки должны понять, что в этой семье ребенок воспитываться не может, его нужно забирать в детский дом, как бы ни хотелось сохранить кровную семью? Существует ли в законодательном пространстве такое определение?
– Это комплексная история, про которую Вы говорите. Потому что, с одной стороны, у нас есть ситуации, когда действительно родители являются угрозой для своих детей. Хотелось бы, чтобы никогда ни один родитель своему ребенку не вредил, не вредил серьезно. Но у нас есть случаи насилия в семьях, в том числе сексуального насилия, серьезных избиений и, к сожалению, убийств. У нас есть ситуации, когда действительно родители являются угрозой для своего ребенка.
А дальше Вы спросили про законодательство, и вот это очень большая проблема. Как это сегодня выглядит у нас в законодательстве? У нас есть статья Семейного кодекса, где написано, что при непосредственной угрозе жизни и здоровью органы опеки вправе забрать ребенка из семьи. Все. Это исчерпывающе, больше вокруг этого ничего в законодательстве нет. То есть если есть непосредственная угроза жизни и здоровью. А как это определяется?
– Голодный ребенок. Это угроза?
– Угроза здоровью, когда голодный ребенок? Вроде да.
– В какой-то степени.
– Сквозняк – угроза здоровью? Непонятно. Простыть же можно, то есть это угроза здоровью. На самом деле, конечно, это очень широкие рамки при отсутствии того, о чем мы говорим уже много лет: у нас сотрудники органов опеки – это люди, которые не имеют специального образования. Нет такой специальности – специалист органов опеки ни в одном вузе страны. То есть мы не готовим специально людей, которые имеют право из любой семьи забрать ребенка.
– А существует статистика, кем по профессиональному образованию чаще всего являются сотрудники органов опеки?
– Я статистики не видела, но на нашем опыте взаимодействия две самые частые профессии – это сотрудники органов внутренних дел, отдела по делам несовершеннолетних. Они рано выходят на пенсию и потом приходят в органы опеки; или приходят потому, что там тяжелее работа. Очень большая часть – это люди, которые раньше работали в системе МВД, и понятно, что у них взгляд немножко нацелен на выявление преступности.
Часть – это педагоги. А третья часть, по опыту общения с ними в нашем регионе, – кто угодно. Мы познакомились, например, с сотрудником, поваром по образованию. Есть юристы, но они тоже очень часто из системы МВД. Вот такая картина, которую мы видим своими глазами.
При этом понятно, что человек имеет такие серьезные полномочия принимать решения… Это ведь не только про отобрание, это и про устройство в приемную семью. Вот в этой семье будет ребенок жить или не будет? Или когда родители делят ребенка между собой, в этом участвуют органы опеки. То есть очень много решений, судьбоносных для других людей, принимают люди, у которых нет образования, связанного, например, с тем, как определить, хорошо ребенку или плохо. Про детско-родительские отношения, про потребности ребенка разного возраста, чтобы понять, удовлетворяют ли его родители эти потребности, – да откуда они знают? Они знают законодательство и как в законе эти права где-нибудь обозначены.
И, конечно, у них еще очень много другой работы. Органы опеки занимаются ведь не только этим, у них огромное количество всякой бюрократии, связанной с жилищными вопросами, они занимаются всеми взрослыми недееспособными. Какие-то вещи, связанные именно с правовой защитой, у них основные. И получается, что заодно у этих людей есть полномочия принимать вот такие судьбоносные решения, но каких-то инструментов для этого у них нет.
Вы знаете, в нашу программу профилактики сиротства, помогающей семьям, очень часто обращаются органы опеки. Вот есть сигнал (они просто так, конечно, по квартирам не ходят, это миф; они ходят, только если поступила какая-то жалоба), они обязаны это проверять, и это логично, потому что, может быть, там на самом деле какой-то ужас происходит, ребенка обижают сильно. Они выходят туда, и дальше у них в рамках этого закона есть ровно две развилки: забрать или не забрать. Всё. Они не могут семье помочь, они не могут даже взять какой-то срок на расследование ситуации, потому что она вообще-то не очень очевидная. Понятно, что если там какое-то преступление, они полицию вызывают. Тем не менее у них есть свои собственные полномочия, и к ним не прикреплено никаких ресурсов поддержки семьи.
Вот они нас набирают и говорят, например: «Мы вышли в семью, живут они просто в ужасных условиях, там нельзя ребенка оставлять. Но мы видим, что мама-то, в принципе, хорошая, но не справляется, а мы ей ничем не можем помочь, мы можем только его забрать. Мы пока его оставили, помогите, чтобы мы его не забрали». Или, например, если они все-таки из этих условий забирают ребенка…
– Подождите... Вот они вам звонят. Вам – общественной организации – звонят представители государственных органов власти, которые не могут помочь этой семье…
–У них нет такого функционала, они могут только подключить соцзащиту. И то если она подключится… Потому что там какой принцип? Заявительный. Семья должна написать заявление – раз, ее должны признать нуждающейся – два. И мы говорим о ситуации (это было раньше в Москве, сейчас в Москве по-другому), когда соцзащита и опека в разных ведомствах, они разобщены и у них нет такой сильной коммуникации. Вообще-то опека не может заставить соцзащиту что-то делать для этой семьи.
– Ну хорошо; к вам обратились – и что вы делаете? Какую помощь обычно оказываете?
– Мы тоже выходим в эту семью, знакомимся с ней, пытаемся понять, что там происходит. Во-первых, иногда оказывается, что наша задача – убедить опеку, что ничего такого страшного там не происходит. Потому что мы пришли, увидели и поняли: их напугали какие-то вещи, не очень объективные.
– Давайте уточним, необъективные вещи – это какие, например?
– Те самые условия проживания. Мы понимаем: да, там грязно, сильно грязно. У нас антисанитария – одна из достаточно популярных причин, почему ребенок забирается из семьи. Но это ситуация временная, потому что у людей параллельно шел ремонт, что-то накопилось... Праздники были, что, к сожалению, многих людей побуждает к потреблению алкогольных напитков и еще большему захламлению жизненного пространства. Но обычно-то у них не так! Мы опросили соседей, поговорили с семьей и понимаем, что эта ситуация совершенно разовая. И тогда мы понимаем, что все нормально, быстро нужно разгрестись и сказать опеке, чтобы они их не трогали.
У нас была недавно ситуация, когда, к сожалению, нам не удалось помочь. Конечно, в основном это довольно сложные истории. Я расскажу историю, где мы пока не добились успеха. К нам обратилась семья, в которой случилась трагедия: мама покончила жизнь самоубийством, и папа остался один с тремя детьми, но у папы есть психиатрический диагноз. Он находится под наблюдением психиатра, он совершенно нормальный, обычный, адекватный человек, который контролирует свое состояние, потому что он знает о своем диагнозе. Он не ведет себя так, чтобы можно было сказать, что это опасно. И трое детей, включая маленького годовалого, остались на нем одном. Там еще бабушка, но она очень старенькая, помогает чем может.
И вот опека в этой ситуации, когда мамы нет, трое детей, папа с диагнозом, начала сразу же как-то к ним предвзято относиться и подала на ограничение прав, хотела детей забрать в приют. Мы вмешались в эту историю, нам удалось их отстоять, уговорить опеку не делать этого, мы эту семью сопровождали. Да, там папа не со всем справлялся, потому что он оказался один, еще и после смерти жены; не во всем с учебой, с тем, как у них устроен быт…
И в какой-то момент, когда мы с этой семьей уже работали, там случилась такая ситуация: младший (годовалый) ребенок выпал из окна. Папа был в другой комнате в этот момент, трое детей смотрели телевизор, старшие смотрели на экран, было открыто окно, и они не уследили за младшим. Он получил только ушиб, то есть там не было даже сотрясения головного мозга. Он очень удачно упал (невысокий этаж), и в итоге ничего суперсерьезного не было, ребенок не пострадал.
Но после этого случая всех троих детей забрали в приют, на папу подали уже на лишение, а до этого подавали на ограничение. Как это выглядит их глазами: у мамы суицид, у папы психиатрия, трое детей, он не справляется, а когда им дали возможность и сказали, что не будут пока забирать, у него выпадает из окна ребенок.
Это стечение обстоятельств; действительно, он не уследил. Мы провели беседу, что, конечно же, в ситуации, когда у тебя трое детей, ты один и не очень справляешься, должны быть решетки на окнах. Конечно, они тут же их установили. У них хорошие между собой отношения, папа не бил и не обижал этих детей никогда, он, несмотря на свое заболевание, никому не опасен совершенно.
Но в результате дети сейчас находятся в приюте. Нам не удалось добиться их возвращения. По-моему, его по суду ограничили и сейчас планируют лишать, и я не уверена, что здесь нам удастся что-то сделать. Для опеки это картина повторяющейся опасности, в которой находятся дети, и это очень тяжело, когда ты не можешь донести до людей, что отношения между людьми важнее, чем эти вещи. Риски можно снижать не путем отбирания детей, а путем установки решеток на окна. Ну, не все это понимают! И папа сравнительно недавно находится в этой функции, когда он за все отвечает и должен все иметь в виду (что маленький ребенок и открытое окно – это вещи, которые не должны сочетаться между собой, когда еще и взрослых нет в комнате).
Бывают случаи, когда действительно ребенку угрожает прямая опасность. У нас есть случай, где опять же нам не удалось, к сожалению, пока добиться помощи. Мама с тяжелой инвалидностью, у нее ДЦП, она живет вместе с мужем и двумя детьми. Муж ее избивает много лет (это к вопросу, что не надо нам заниматься семейным насилием; очень даже надо). Когда он выпивает, становится агрессивным; когда трезвый – он нормальный. В какой-то момент, когда он был агрессивным, он совершил сексуальное насилие над ее девятилетним сыном, и не один раз. В какой-то момент сын об этом сказал, подтвердила сестра, потом стало понятно, что так и есть. И мама даже выйти не может без мужа, у нее ДЦП, она самостоятельно не может выйти из квартиры, ей помощь для этого нужна. Она об этом рассказала своей соседке, и соседка начала бить в колокола, к нам обратилась и в опеку.
Опека вышла в эту семью с полицией. Но полиция поступила крайне неграмотно: они пришли и опросили ребенка и женщину, когда этот муж был дома, сразу же сказали, зачем они пришли. Их отвели в другую комнату, но понятно, что в этой ситуации никто ничего не скажет. Они, конечно, сказали, что ничего не было, потом перед соседкой рыдали: как она могла кому-то сказать, теперь этот человек их вообще убьет всех! В итоге, поскольку они отрицали, а сообщение поступило со слов постороннего человека, то уголовное дело не завели, разбираться с семьей не стали, и они живут в этой ситуации угрозы до сих пор.
Вроде как очевидная ситуация, но вопрос: как это делать? Есть какие-то такие ситуации, где действительно ребенок находится в прямой опасности, и по-хорошему там нужно ребенка изымать, а этого мужчину сажать. Но при этом какими методами действуют те, кто приходит?.. Вот я Вам говорила про кадры, про профессионализм, про отсутствие подготовки – они же не понимают этих вещей! То есть они входят и не понимают, что они делают. В результате ситуация оказывается неразрешимой.
В большей степени нам удается помогать людям восстановить какие-нибудь утерянные документы, привести в порядок их квартиру. С ними довольно долго работает психолог, чтобы они сами уже учились как-то выстраивать свою жизнь по-другому, чтобы потом, когда мы уходим, к ним не было претензий со стороны опеки. Если просто прийти и за людей убрать, у них это нарастет ровно через месяц, и в этом нет особого смысла, потому что к ним через месяц снова вернутся для проверки – и проверка покажет, что ситуация не изменилась. Человеку нужно понимать, почему это происходит.
У нас, например, была семья, где мама организовала дома 60-сантиметровый культурный слой мусора, в котором они жили, она ничего не выкидывала. И там жила целая семья: был муж, было трое детей. Школа пожаловалась в опеку, потому что от детей плохо пахло, они не очень чистые приходили в школу. И у них действительно были чудовищные условия жизни: сплошная грязь, мусор, одежда старая, бумажки; все это просто лежало и, в принципе, не убиралось. Мы начали с этой мамой работать, и оказалось, что в 90-е годы она в своей семье прошла через очень тяжелые времена. Они потеряли все, им было нечего есть, они жили в какой-то чудовищной нищете. И у нее очень сильная травма сложилась в результате на тему того, что в любой момент может все пропасть, что нужно все сохранять. Ты не можешь выкинуть ни один фантик, потому что что-нибудь такое может случиться – и этот фантик (или тряпочка) спасет тебе жизнь.
А у опеки было совершенно четкое требование: либо это все меняется, либо дети остаются в приюте. Понятно, у человека эта история не потому, что она просто не умеет убираться и не понимает, как это сделать, а связана с тяжелыми внутренними травмами; она не может убраться. Вот ей говорят: или дети, или уборка. А она психологически не может этого сделать: встать и выкинуть этот пакет. Вот не может!
С ней довольно долго работал психолог, мы немножко с этим справились. Она, во-первых, детскую комнату полностью разгребла. Во-вторых, мы все-таки избавились от довольно большого количества старых вещей, которые она хранила с 90-х годов; у нее пошел процесс освобождения от этого. Это был невроз, человек был в неврозе много лет. Не на сто процентов, но все стало уже намного лучше, и детей ей вернули. Они немножко заросли, конечно, потом грязью, но абсолютно не в тех масштабах, как это было вначале. И они живут там достаточно благополучно все вместе.
– Сколько было лет детям?
– Школьники. Старшей было четырнадцать.
– Школьники себя органично чувствовали в этой ситуации?
– Они в ней выросли и, конечно, органично себя в ней чувствовали.
– Они же приходили в дома других детей. Вы беседовали с детьми?
– Да, возможно, им казалось, что там было лучше. Я лично не беседовала, но наши психологи – конечно. Дети понимали, что это не совсем правильно, но они были очень привязаны к маме. Вы понимаете, что дети в основном вообще привязаны к своим родителям и считают, что их родители – правильные. Они понимали, что у других не так, что, конечно, хорошо бы по-другому. Но они выросли в этой среде. Меня больше удивляет муж на самом деле, который оказался в этой ситуации, будучи уже взрослым человеком.
Удивительно для нас, но у них были нормальные между собой отношения – с учетом того, что они жили в условиях, куда сложно даже зайти человеку, который к этому не привык. Дети, конечно, немножко имели проблемы с гигиеной, потому что не очень к ней приучены. Этим вещам можно научить в том возрасте, в котором эти дети находятся, если их вовремя «поймали». А отношения с родителями так легко внешними руками не делаются. То есть то, что может дать мама, может дать только мама. Убирать за собой и вовремя умываться – этому можно научить. В этой семье этому нужно было научить и маму, и детей. И не просто научить. Потому что когда у человека невроз, вы можете чему угодно его учить, но в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нужно было с ней работать над тем, чтобы она освободилась от этого страха потери всех своих бессмысленных мусорных накоплений.
– То, о чем Вы говорите, это колоссальная индивидуальная работа.
– Да, конечно.
– В прошлой программе Вы говорили о том, что необходимо менять систему, обозначали разные темы, в которых нужно системно менять подходы. Насколько такой индивидуальный подход может быть доступен в системе государственных органов власти? Или же здесь нужна передача этого (аутсорсинг, как модно говорить) некоммерческим организациям? Вот Вы говорите: не хватает полномочий, не хватает ресурсов органам опеки, соцзащиты. Но они же не будут заниматься таким сопровождением, как вы, как общественная организация. Тут какой-то тупик.
– Я с Вами не соглашусь. Если бы они были обучены и у них были ресурсы… Я вообще сторонник того, чтобы не видеть принципиальной разницы в том, государственное или негосударственное. Главное, должны быть государственные гарантии, государство должно гарантировать, что каждый человек получит помощь, а чьими руками, кто будет непосредственно исполнять – неважно. Тогда государство должно это и оплачивать либо НКО, либо службам.
Вот у нас же сейчас есть социальные работники, которые индивидуально по одному ходят к бабушкам. Что они там делают? Приносят еду, помогают готовить. Понятно, что в основном они не очень наученные… Есть те же методики, по которым мы работаем, работают другие организации и ряд соцзащит в России. Это не что-то такое удивительное, это ситуация, которая уже есть. В Вологодской области, например, частично в Москве, еще где-то органы социальных служб учатся работать по технологии ведения случая, как это называется, когда они к каждой истории подходят строго индивидуально и разбираются с тем, какие там у людей проблемы, подключают те ресурсы, которые этим людям нужны. Или это психолог, или юрист, или социальный работник.
Это может быть задача, например (и мы часто с ней работаем), восстановить отношения людей со своими родными. Очень часто какой человек попадает в беду? Это ключевая история, которую нужно нам всем про себя понимать. В беду попадает тот человек, у которого потеряны хорошие коммуникации со своим близким кругом. Почему мы приходим в семью? Потому что в эту семью не придет их мама, бабушка, сестра, тетя, двоюродная сестра, потому что либо их нет, либо со всеми потеряны отношения. Они все когда-то поругались между собой, разъехались по разным странам, весям и городам либо живут на соседних улицах, но не общаются. Человек оказывается в ситуации, когда никто ему не помогает из тех, кто, в общем-то, должен это делать, из его расширенной семьи. Иногда наша задача – этих людей, которые десять лет между собой не общались, помирить и помочь им начать коммуницировать ради помощи своему человеку (их дочка, внучка, племянница находится в ситуации, когда опека вот-вот отберет ребенка), включиться в эту историю.
Иногда люди знают, что у них есть где-то какая-то племянница, но они не знают, как она живет, что у нее сейчас отбирают ребенка. Иногда они к ней относятся плохо:
– Она плохая, алкоголичка, образ жизни...
– Все правильно, прекрасно. Тогда заберите этого ребенка себе.
– Ой…
– Ну, тогда давайте ей помогайте, чтобы она этого ребенка растила.
Большая беда нашего общества сегодня – это не просто разобщенность, а то, что люди не чувствуют, что эта ситуация имеет к ним отношение. Меня очень часто огорчают ситуации, когда мы выясняем, что у ребенка огромное количество благополучных родственников, иногда даже живущих не в другой стране или городе, а рядом. Но они вообще никак в эту ситуацию не включаются и наблюдают или даже не интересуются тем, что ребенок из этой семьи сейчас попадает в детский дом. Или когда (это тоже часто бывает) нам звонят как раз таки эти родственники с просьбой найти для своего внука, племянника хороший детский дом.
Мы людей, конечно, консультируем, но в этой ситуации, мне кажется, нужно, чтобы это стало нашей общественной нормой, как это есть в ряде стран, например, Кавказа: ребенок не может выпасть из семейного круга. Неважно, какая это сестра или племянница! Да пусть она трижды алкоголичка, да пусть вы с ней в таких контрах, что друг друга уже пятнадцать лет обходите за три километра стороной, – но ее ребенок не должен попасть в детский дом! Вы собираетесь семейным кругом и решаете, кто его забирает. У нас такого пока нет, у нас люди в этот момент отмораживаются, не включаются в историю. Посмотрите, сколько у нас детей в детских домах – разве это всё семьи, в которых нет родственников?
– Десять лет назад я общался с директором Покровского детского дома во Владимирской области, которая как раз развивала семейный тип организации пространства детского дома. И меня тогда поразил факт, который она рассказала. Очень много в тот момент (это был кризис, 2008–2009 годы) им звонили и говорили: «Можно мы вам отдадим детей на два-три месяца, полгода? Мы сейчас потеряли работу, и пока мы ищем работу, нам нечем кормить детей». И она принимала их на это время. Родители находили работу, потом забирали детей. Но факт, как Вы говорите: в большинстве своем это дети, у которых есть не только родственники, но и сами родители.
– Это отдельная проблема, о которой Вы сказали. В государственной системе это «дети по заявлениям», то есть те дети, которых передали родители на время. Вы знаете, на самом деле большинству из них совсем не нужно было передавать детей ни на два, ни на три месяца, ни на полгода. Им нужно было какую-то школу, детский садик, что-то такое дневное на время работы родителей или какая-то помощь по хозяйству. В этом смысле это как раз и есть те услуги, которые надо развивать, в том числе на базе детских домов.
У нас были случаи, когда мы начинаем разбираться внутри учреждения, почему ребенок там, и выясняется, что мама потеряла работу, там больная бабушка, за которой она ухаживает, ребенку полтора года, и она не может одновременно ими заниматься. Его не берут ни в один сад, потому что все сады с трех лет, и вот она его на полгода сдает в дом ребенка. Мы говорим: «А почему вы ей не предложили, чтобы она его сюда как в садик водила? Дневное пребывание. Пусть не так, как в садике, что в шесть часов забирают (она с работы не успевает), а до восьми часов вечера, например. У вас есть эта возможность». – «А у нас нет такого в уставе».
Вот это «в уставе» – вопрос министерства. Вписать в устав детского дома можно все что угодно, все эти услуги. И, например, в Костромском доме ребенка, в Калининграде уже меняют эту ситуацию, то есть там появляется дневной присмотр. И эта мама, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, крутясь как белка в колесе, не должна лишаться своего ребенка, не видеть его в течение этого года, полутора лет (сколько он там будет). Она туда его приводит как в детский садик, вечером забирает и живет со своим ребенком дома.
Ключевая история, которая происходит вот при этих временных размещениях, это то, что у них на самом деле между собой, конечно же, меняются отношения. Привязанность требует постоянства. Когда ребенок не видит родителей, он их забывает. И он на них очень сильно обижен (даже маленький), что они его оставили. У него очень много этих чувств и эмоций, которые потом будут мешать строить отношения, когда он будет подростком, например. А родители начинают понимать, что без ребенка легче, они строят какой-то свой быт без него, и им опять же тяжелее его потом забрать. На самом деле нужно не допускать таких историй. Только днем, на месяц, если человеку нужно куда-то уехать или лечь в больницу, но не больше.
Ведущий Александр Гатилин
Записала Екатерина Самсонова
Нравится:
TweetВремя эфира программы
- Воскресенье, 21 апреля: 00:05
- Вторник, 23 апреля: 09:05
- Четверг, 25 апреля: 03:00
Анонс ближайшего выпуска
Как встреча со святыней меняет людей? О принесении мощей святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары в пределы Русской Православной Церкви рассказывает Ольга Кирьянова, старший научный сотрудник Центра музейной политики Института Наследия.
Мы в контакте
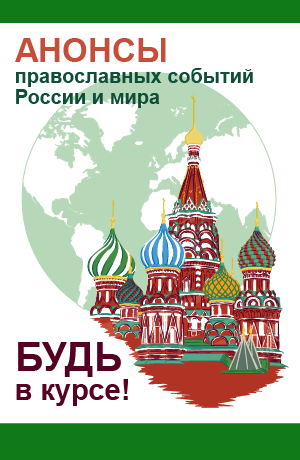
Последние телепередачи
-
 20 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
20 апреля 2024 г.
«Этот день в истории» (Екатеринбург)
Этот день в истории. 20 апреля
-
 20 апреля 2024 г.
«День ангела»
20 апреля 2024 г.
«День ангела»
День ангела. 20 апреля
-
 20 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
20 апреля 2024 г.
«Церковный календарь» (Санкт-Петербург)
Церковный календарь 20 апреля. Мученик Каллиопий Помпеопольский
-
 20 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
20 апреля 2024 г.
«Читаем Евангелие вместе с Церковью»
Евангелие 20 апреля. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его
-
 20 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
20 апреля 2024 г.
«Читаем Апостол» (Санкт-Петербург)
Читаем Апостол. 20 апреля 2024
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …






