Беседы с батюшкой. Таинство проповеди
Аудио |
|
Скачать .mp3 |
– Казалось бы, в теме «Таинство проповеди» мало того, о чем можно говорить в общем смысле. Тем не менее когда мы слышим проповедь, часто возникает ощущение, что это просто перечитывание Евангелия этого дня. Бывает, что проповедь доходит до нас очень сложно, а бывает, наоборот, такой понятной и такой простой, что возникает ощущение буквально единения со священником. Что же есть в проповеди, с одной стороны, таинственного, а с другой – простого и реального?
– Дело в том, что, говоря о проповеди, мы непременно погружаем это явление в богослужебный контекст. С одной стороны, это очень правильно, потому что действительно говорить о проповеди как о таинстве я бы взялся, ссылаясь на хорошо понятный нам церковный опыт. Я это пережил, когда стал священником и начал говорить проповеди, в тот момент, когда, проводя богослужение спиной к народу, лицом к алтарю, вдруг поворачиваешься лицом к людям, которые только что молились. И, наверное, это то, что многих молодых священников просто выбивает из седла, потому что это очень ответственно – смотреть в лица людям, которые только что молились. Ты как будто бы настигаешь человека в какой-то очень интимный, внутренне важный, сокровенный момент его переживания. Он только что открылся Богу, потому что молитва – это очень ответственное открытие перед очами Божьими. Это хорошо видно по лицу молящегося человека, отражается в его глазах, и ты как будто бы вторгаешься на эту сакральную территорию и позволяешь своему слову вплетаться в ткань богослужения – это очень ответственно, очень тяжело. Это наносит на проповедь отпечаток неповторимого события.
Вот почему, например, я не могу читать проповеди, изданные в сборниках, которых очень много: протоиерей такой-то и его проповеди на евангельские чтения, дни года и т.д. Может быть, это хорошо как пособие, ориентир, но я не люблю их читать, потому что церковная проповедь – это всегда неповторимое событие. Есть конкретный человек, конкретный опыт, люди, которые его слушают, и это невозможно повторить, хотя мы, конечно, стараемся записывать проповеди замечательных людей. Например, я люблю проповеди митрополита Антония Сурожского, для меня это просто критерий.
Но церковная проповедь – это еще не весь опыт проповеди, который мы должны описать. Таинство проповеди – это всегда опыт благовестия, не только внутрицерковного. То, чем мы с Вами сегодня занимаемся, Глеб Борисович, – это проповедуем слово Божие; это тоже таинство. И Вы в этом смысле тоже евангелист; и я, потому что всякий человек, который говорит о Христе, о вести Евангелия, – совершает проповедь. Это таинство понимания, таинство встречи с Богом, которое возможно не только в церкви, но и в любом другом месте. Я знаю множество примеров, когда человек находил Бога в концертном зале. Например, из биографии философа Евгения Трубецкого известно, что в юности он утратил веру, а пережил опыт встречи с Богом во время концерта, который играл Антон Рубинштейн. Это удивительно! И есть эпизоды постижения Откровения Божия в других условиях. Я бы сказал, что это таинство в каком-то смысле даже не всегда вербально.
Иногда лицо верующего или просто хорошего человека может сказать очень много. У меня был такой опыт, когда я был подростком и приехал впервые в Москву, преисполненный «подростковых ядов», то есть критического отношения ко всему: все мне казалось фальшью, подозрительным. Но я тогда увлекся православием, это было неожиданно, интересно. А в Новодевичьем монастыре был хор, и они только что издали пластинку, посвященную 1000-летию Крещения Руси. Я пытался разыскать этот хор, послушать его в монастыре и увидел, как люди подходят к причастию. На тот момент я еще ни разу не причащался, хотя в церковь ходил. Казалось, что это что-то неважное. И когда люди отходили от Чаши, меня поразило лицо одной из моих московских знакомых, старушки, – я был просто растерян. Ее лицо сказало мне о Евхаристии, может быть, гораздо больше, чем книжки, которые я тогда читал (хотя тогда их было не так много).
То есть проповедь – это не только церковное событие, не только событие внутри общины, но еще и таинство, которое совершается между людьми по всей земле. У Вас есть дочь, и Вы для нее тоже в каком-то смысле евангелист, проповедник, как я, например, евангелист и проповедник для своих близких. А они, в свою очередь, для меня. И сейчас, мне кажется, перед нами стоит важнейшая церковная задача – осознание того, что Церкви, как никогда, нужны евангелисты. Евангелисты как школа проповедников, как школа людей, которые должны понимать, что в каком-то смысле это даже их работа.
Книга Деяний апостольских рассказывает эпизод из жизни раннехристианской общины, первого христианского поколения. Апостол Петр вдруг сталкивается с проблемой, которая в каком-то смысле унижает апостольское достоинство, потому что к нему пришли вдовицы с жалобами на то, что их, вдовиц эллинских, вдовиц рассеяния, презирают и все лучшие куски в этой общине отдаются местным, иудейским. И апостол Петр говорит: «Ну как же нам, благовестникам слова, забыв о слове, заботиться о столах?» И тогда появилось очень благородное и очень важное для Церкви особое служение дьяконов, служение столам. А апостолы продолжили служение слову.
Зададим вопрос о том, кто сейчас в Церкви служит слову в апостольском смысле этого термина (не как церковное служение, дополнительное к чему-то, а как единственно важное). Современного священника мы не можем назвать благовестником-евангелистом в апостольском смысле слова, потому что главным образом мы служим церковной общине. Наше служение пастырское, душепопечительское и т.д. Наше служение в большей степени обращено вовнутрь. А кто апостол? Кто сейчас печется не о столах, не о вдовицах, не о прихожанах и прихожанках, а о том, чтобы благовествовать и чтобы это было его главной работой? То есть нашему церковному обществу, как мне кажется, надо дорасти до осознания того, что должен быть определенный ранг людей, служение которых сосредоточено только на слове. И чтобы они никому не доказывали, что их служение необходимо Церкви. Вот мы с Вами, Глеб Борисович, на самом деле очень ценные люди; если хотите, нас должны носить на руках, потому что мы тоже в каком-то смысле благовестники, евангелисты. (Смеется.) Вы трудитесь на телеканале – это очень благородное служение, я тоже пытаюсь что-то такое делать. Это очень важно, таких людей надо искать, собирать, поощрять и даже некоторым образом ободрять их деятельность, чтобы ты не был вынужден постоянно всем доказывать, что занимаешься хорошим делом, а не самопиаром, как мне однажды сказали. Ты в каком-то смысле слова евангелист – это очень важно. Мы не будем тратить много сил на то, чтобы оправдываться, а будем просто говорить о Христе.
– Вопрос по поводу того, что нам говорят: «вы – царственное священство». Что это за парадокс в нашем православном понимании?
– Это не парадокс. Это фраза апостола Петра из его послания, хорошо известное место – «царственное священство, народ святой, люди, избранные в удел». Здесь все на самом деле просто. Это ни в коем случае не парадокс, а следствие библейского ветхозаветного мышления, которое наконец-то «осознало» себя, придя к своему истоку – откровению о Христе. Потому что все эти тени, типажи, притчи, развернутые в конкретных биографиях в Ветхом Завете, наконец-то стали понятны, когда люди увидели Христа, когда поняли, о Ком были все истории. Например, история Иосифа Прекрасного: что это была за продажа его в рабство, что это за сребреники, за которые его брат Иуда продал его в Египет? О чем, например, история жертвоприношения Исаака? То есть все эти типажи однажды сошлись, и люди, воспитанные в Ветхом Завете (первое поколение христиан), поняли, что все это о Христе и Его Церкви.
И «царственное священство» – это откровение о том, что каждый христианин – священник. У нас сейчас спорят, возможно ли женское священство. В православии оно есть. Каким образом? Вот Вы священник, Глеб Борисович, хотя Вас, кроме дочери, отцом никто и не называет. Почему священник? Потому что священник – это тот, кто имеет право совершать таинство. Какое таинство Вы имеете право совершать как православный христианин? Таинство это может совершать и Ваша супруга, и Ваша крещеная дочь. Вы можете крестить. Я был знаком с одной старушкой, которая во времена Советского Союза по благословению своего духовника-старца работала медсестрой в родильном доме и крестила там некоторых безродных детей и тех, кто был при смерти. И потом она молилась за них. Женщина, у которой есть право совершать таинства, – священница, как ни странно это звучит. И рукоположение каждого из нас, православных христиан, в этот священный сан происходит в таинстве Миропомазания.
Таинство Миропомазания не что иное, как благословение нам быть священниками – народом святым. В этом самый главный смысл этого таинства. И хиротония в древности тоже проходила через миропомазание. Это такие символические синонимы: рукоположение – это синоним миропомазания, а миропомазание по-своему отражает рукоположение, они взаимозаменимы. Поэтому царственное священство – это достоинство каждого христианина. Другое дело, что среди царственного священства есть люди, которым поручено возглавлять Евхаристию. Это особое служение, которое ставит человека в определенное ответственное положение. Но он священник среди священников – вот в чем дело.
А таинство проповеди как обязанность каждого христианина, который живет в апостольской Церкви, говорить о Христе, благовествовать о Нем должно быть тоже осознано каждым человеком. Но тут тоже есть личная одаренность. Апостол Петр взялся служить благовестию, а диакон Стефан заботился о столах. То есть у каждого свое служение.
– Тем не менее мы помним, как закончил диакон Стефан. И вспомним, как перед Петром, отправлявшимся к язычникам, опустился плат...
– Да-да, Корнилий; 10-я глава.
– Это тоже очень важный момент, и если дело обстоит действительно таким образом, мы должны еще понимать ту веру, которую исповедуем, иначе мы не имеем права на какое-то пренебрежительное отношение к знанию. Мы же все умеем читать и можем читать книги, хотя есть и сложные. Каким образом нам узнавать о своей вере?
– У каждого своя мера, и здесь не нужно ставить себе каких-то высоких задач. Есть люди простые, которые могут взять лишь столько, сколько им дано. У меня была приятельница Мария Ивановна (давно покойная), благообразная старушка, которая ходила в наш Никольский храм. Она была моей соседкой, и ее знал почти весь наш город, потому что большую часть жизни она провела принимая записки в нашем храме. И делала это дело с большим энтузиазмом. Всякий человек, который приходил в церковь поставить свечку или подать записку, обязательно становился ее знакомым. Она тут же узнавала, почему человек пришел, тут же начинала рассказывать о церкви, о том, как сходить на исповедь, как причаститься. Мы с ней неоднократно возвращались в троллейбусе домой, и в троллейбусе у нее тоже не закрывался рот – она обязательно с кем-нибудь разговаривала, рассказывала про праздник, про святого, которого сегодня вспоминали. И это у нее получалось очень естественно. У меня так не получается, я все-таки интроверт, я не могу напрямую обратиться к человеку, быстро с ним познакомиться и т.д. Но у каждого своя мера. Вот она имела такой талант, такую общительность. При всем том человеком она была очень простым: не читала толстые книги, энциклопедии, не изучала «Библеистику» в редакции Бультмана, не сверяла разные переводы Библии, не знала о существовании многих разделов богословского знания. Но как говорится в Писании, от избытка сердца говорят уста. Сколько избыток ей позволял, столько она и говорила. Видимо, избыток у нее был большой.
Может быть, надо свой избыток не удерживать и в ту меру, в какую сердце и его величина позволяют, и говорить. В этом смысле я не очень сильно переживаю по грамотности и т.д. В Древнем Риме был такой замечательный теоретик риторики Квинтилиан, который издал большое сочинение о риторике (кстати, очень полезное; его изучают и в семинариях). Он говорил о том, что красноречивым человека делает сердце. Это говорил язычник. То есть это универсальный закон – сердце делает человека красноречивым. Если сердце горит, если ты чем-то по-настоящему взволнован, ты не сможешь его удержать. Вот и не надо удерживать – очень простой рецепт.
– Когда Вы говорили о своей знакомой, я понял, что вообще-то она могла бы преподавать гомилетику.
– Она бы не могла. Есть люди, которые прекрасно разбираются, например, в драматургии, теории кино, но они не способны снять хорошие фильмы – так бывает. Иногда говорят, что в критики идут те люди, которые не умеют писать или снимать. Ничего подобного. Есть гениальные критики, которые самому автору, писателю или режиссеру рассказывают, что он на самом деле снял. И человек может хвататься за голову и говорить: «Боже мой! Как я этого не заметил!» Но неспособность человека к рефлексии не говорит о том, что он делает что-то плохо. Есть люди от сердца, от природы такие. Вот она была природным ритором, но она не смогла бы преподавать гомилетику – не смогла бы рассказать, как это делается.
Мне кажется, что сейчас гомилетика как учение о проповеди не может быть сосредоточена только на внутрицерковной проповеди, включенной в ткань богослужения. Это маленькая часть, небольшой фрагмент большого служения, большого таинства проповеди, о котором мы сегодня говорим и которое обозначили только контурно.
– Не могу не задать вопрос о том, что очень часто от церковных и в большей степени нецерковных людей мы встречаем обвинение в том, что в нашей православной церкви все очень грустное, тяжелое и часто даже угрюмое. Все-таки когда мы говорим о проповеди, она должна прежде всего разбудить в человеке покаяние или, может быть, и какие-то другие чувства?
– На самом деле мы всего лишь наблюдатели того таинства, которое происходит между человеком и Богом. Мы вообще не можем ничего навязать, разбудить и т.д. Мы создаем условия встречи между Богом и человеком. Что между ними произойдет, какая искра проскочит? Что человек поймет, что ему скажет Господь, на что он обратит внимание, мы не знаем. Но дело в том, что обвинение в угрюмости все-таки несколько некорректно. Православие очень разнообразное, и я за разнообразие. Православие не просто разное, оно должно быть еще более разнообразным, чем есть. Потому что право на существование имеют разные стили благочестия.
В классических святоотеческих текстах (например, в Древнем Патерике) мы видим истории из жизни старцев, которые, что называется, вошли в хрестоматии. История о том, когда пали два брата и пришли на покаяние к старцам, которые дали им епитимью, канон. Оба брата были одного возраста, одного веса... Их затворили в келье, и те какое-то время постились на хлебе и воде, молились. Один после затвора вышел с веселым лицом, бодрый, благодарный, а второй – заплаканный, угрюмый, серый и очень грустный. Старцы призадумались – какую духовную оценку этому дать? И сказали, что оба пути правильны.
Так вот, мне кажется, не только два этих пути возможны, но пять-десять вариантов, потому что сколько людей, столько возможно и стилей благочестия, ответа и т.д. И это говорит о том, что таинство проповеди не приговорено к одному языку. Потому что церковная проповедь мыслится для нас как речь глаголами, нужно обязательно «жечь глаголами». Есть наш внутрицерковный сленг, к которому мы привыкли, и не отдаем себе отчета в том, что человек нецерковный иногда может просто неправильно нас понять, поэтому нужно осуществлять усилие перевода на современный язык. Ведь язык постоянно развивается, и наши старинные, стилизованные проповеди и речи хороши, но иногда просто не годятся для современников. И каждое поколение должно этот перевод осуществлять, в этом нет ничего плохого – мы не предаем традицию, предание и т.д. Наоборот, усилие по переводу очень важно, оно обогащает.
Почему, например, хорошо бы переводить раз в поколение Библию? Потому что каждому поколению необходимо обращаться к первоисточнику, не пользоваться переводом наших отцов, а снова перечитывать первоисточник, сверять его и выдавать свой перевод. Это не значит, что он хуже или лучше, просто язык развивается, мы развиваемся вместе с ним и должны этот язык воцерковлять, он достоин того, чтобы быть воцерковленным. Я не говорю сейчас о переводе богослужения на русский язык и т.д. – это совершенно другая тема, я говорю о языке межличностного общения. Например, вы понимаете, что означает слово «приложиться» в нашем внутрицерковном языке. А если вы беседуете с музыкантами и говорите, что этот пианист любит приложиться, этот глагол будет иметь совсем другое значение.
Замечательный пример есть в книжке, которую Вы прекрасно знаете, которую обычно читают в детстве, – «Два капитана». Там есть чудесный эпизод, когда педагог говорит мальчику, главному герою: «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». И мальчик на это обиделся, потому что на языке детей «воображать» («воображала») означает слишком много о себе думать, рисоваться. Учитель имел в виду, что у мальчика развита фантазия, он большой фантазер, не хотел сказать, что тот воображала. А мальчик услышал это слово на языке детей. И в моем детстве в детском лексиконе было это слово «воображала». И только через год, пишет автор, когда герой повзрослел, он понял, что имел в виду его учитель.
То есть мы всегда должны иметь в виду, как нас слышат, у нас должна быть рефлексия. Это не потакание духу времени, как у нас иногда говорят, нет. Это элементарное уважение к слушателю. Мы должны позволить себе труд понимания, как нас слышат. Это просто работа деликатного, воспитанного человека, поэтому мы должны как-то переводить наш опыт на современный язык, искать эти новые фразы. Это постоянная борьба с инерцией слов, постоянное усилие, если хотите, это духовное упражнение, которое мы должны себе разрешать, если хотим, чтобы наша евангельская радость была разделена с людьми, которые нас окружают.
– В церкви разные люди: и пожилые, и молодые, и дети. И каждый раз, когда звучит проповедь, она звучит для всех. Существуют ли какие-то общие законы, которые использует священник для обращения к прихожанам?
– Не знаю, я не теоретик проповеди, я практик. Но могу сказать, что ту проповедь, которую я говорю в нашем храме святителя Николая, я не скажу в другом храме, потому что адресую ее не просто взрослым, детям и т.д., а конкретным прихожанам, которых я знаю. В том, как и что говорить, мне очень помогает исповедь. Почти с каждым из своих слушателей я еще провожу время в личной беседе. Я понимаю их, знаю язык, на котором они говорят, понимаю, как они мыслят, знаю, что их мучает, поэтому проповедь говорится не из каких-то абстрактных соображений, а конкретному человеку.
У меня был опыт служения в Москве, в других городах, и меня просили произносить проповедь. Это всегда тяжело, потому что не знаешь слушателя, и иногда у меня бывало ощущение, что меня не слышат, не совсем понимают, так как я говорил теми словами и на те темы, которые актуальны для нашего прихода, но здесь совершенно непонятны, может быть, чужды, притянуты за уши, здесь с этим, возможно, не сталкиваются и т.д.
Проповедь – это всегда событие, и нужно полагаться не только на какие-то школьные схемы, что преподают в семинариях или университетах, но еще и быть открытым, по-человечески чутким к людям и не бояться ошибаться, оговариваться, сказать что-то не то, ведь даже апостолы ошибались. Помните, апостол Павел говорит в одном из посланий: некто где-то сказал... Апостол Иуда вообще ссылается на какие-то апокрифы, не очень точно кого-то цитирует. Ничего страшного, мы всего лишь люди.
Помню, митрополит Антоний Сурожский в одном из своих интервью рассказывал, как он, молодым священником, назначенный в Англию, еще не зная языка, пытался говорить проповедь, стараясь соблюдать согласование времен и т.д. Он очень сильно волновался и сначала читал проповедь. В конце концов его попросили, чтобы он просто говорил. И он говорил, ошибался, получалось что-то совершенно нескладное, но люди его слышали – вот в чем дело. Не так важно, как ты складываешь слова, важно, чтобы за всем этим было горячее сердце. А оно не может быть иным, как только уязвимым. Потому что обратная сторона проповеди состоит еще в том, что ты себя выдаешь. Вот в чем опасность.
Почему молодые священники боятся (может быть, интуитивно) говорить проповедь? Не только потому, что они смотрят в глаза только что молившимся людям, но еще и потому, что ты себя выдаешь с головой. Как хороший автор, поэт, художник, режиссер всегда выдает себя с головой, если искренне пишет картину или сочиняет произведение. Ты сразу знаешь его слабую сторону, его обнаженное сердце открыто перед тобой. И если ты готов рискнуть, сказать проповедь от всего сердца, будь готов к тому, что ты себя выдашь: на самом деле ты говоришь о себе, а это значит – стать в позицию человека уязвимого. Вот в чем опасность, вот, наверное, почему люди боятся говорить проповеди, им удобнее прочитать. Кстати, в этом нет ничего зазорного, митрополит Филарет (Дроздов), великий богослов, всегда читал свои проповеди... Но сейчас время требует устной, неприхотливой, ни на что не претендующей, но искренней, простой речи, и мы не можем пройти мимо нее.
– В воспоминаниях одного священника, служившего в 70-е годы, есть рассказ о том, что проповедь, которую ты будешь произносить, надо было написать и сдать уполномоченному, чтобы он ее проверил, залитовал, то есть разрешил к прочтению. Батюшка рассказывал, что приходилось использовать эзопов язык, чтобы каким-то образом обмануть этот коллектив уполномоченных.
Вспоминаю об этом для того, чтобы задать вопрос о проповеди среди неверующих людей. Не будем говорить о воинствующих атеистах, но о тех людях, которые активно противодействуют Церкви по разным причинам. С ними приходится тоже много общаться, и здесь тоже должна быть проповедь. На каком языке?
– Атеисты, люди неверующие – это не однородное явление, они всегда очень разные. Бывают разные ситуации, разные люди, разные группы. Мне приходится встречаться с людьми неверующими, но максимально не похожими друг на друга. Здесь всегда в первую очередь надо правильно оценивать ситуацию. Но то, к чему пришел я, – это слово «честность». Есть тот минимум человечности, который всех нас связывает воедино – верующий ты человек или нет. Честность – это та ценность, которую разделяют все нормальные люди, будь то атеист, неверующий, гедонист, эпикуреец, кто угодно.
Честность – прежде всего. Мне кажется, если мы начнем разговор с этой точки, это всегда хорошо. То есть разговор может быть только на фоне честности. Если в Церкви есть какие-то проблемы или, например, человека обидели в церкви, ему что-то не нравится в церкви, обидело или поразило в церковной истории, мы должны честно отнестись к этому и сказать, если это правда: да, мы это признаем. Мы должны честно признавать и существующие у нас проблемы, и то, что у Церкви нет ответов на все вопросы, что мы ни в коем случае не претендуем на абсолютную истину, например, в философии, политике, экономике или даже в воспитании детей. У нас нет абсолютных истин, мы только знаем некоторые евангельские ориентиры, и эту свою в некотором роде даже ущербность мы должны признавать – это нормально.
Когда разговор идет на фоне честности и взаимного уважения, он всегда приносит результат. Но здесь еще важно не погрузиться в извиняющиеся интонации. Потому что иногда верующих буквально заставляют жевать мысль о том, что мы перед всеми виноваты, должны извиняться, оправдываться... Ни в коем случае. Только честность и взаимное уважение, а это значит, что в споре надо уважать не только оппонента, но и себя самого, не позволять разговаривать с собой как с каким-то шутом. Это тоже очень важно. И наши оппоненты это очень хорошо понимают.
– Когда мы говорим о верующем человеке, то понимаем, что это человек, регулярно читающий Евангелие и причащающийся Святых Христовых Таин. Но часто мы сталкиваемся с тем, что Евангелие, дай Бог, только слушается в церкви и не всегда понимается, потому что часто мы слышим неразборчивое чтение Священного Писания. При этом мы знаем людей (имеем таких среди своих знакомых), которые никогда не читали Священное Писание, никогда не приходили в церковь, но общение с ними нам очень легко и приятно, и мы понимаем, что они живут так же, как должен жить православный человек. Может ли быть так, что человек живет по Евангелию, хотя никогда его не читал?
– Вы сейчас говорите о евангельской этике и нравственности, но Евангелие не сводится к этике, философии, нравственности и к набору идей. Дело в том, что самое главное: Евангелие – это откровение о Боге воплощенном, о Боге Живом, Авторе этого мира. Вот чем христианство отличается от любых других религиозных систем. Потому что христианство по большому счету не религия, хотя в нем есть и религия, и этика, и философия, и т.д. Самое главное – это Христос, Бог воплощенный, и встреча со Христом – тем Автором, Который придумал меня, Вас, эту студию, эту историю, страну, мы живем в Его произведении, Его песне. Это Бог, Который стал навсегда Человеком и вознес человека к Божественной вечности, даже приобщил к Божественной жизни – это самое главное.
Не надо путать христианство с религией, как ни странно это прозвучит. Человек, который посещает храм ради «удовлетворения своих религиозных потребностей» (не люблю эту фразу, но все-таки произнесу), может быть активным прихожанином и воцерковленным верующим человеком, но не быть христианином. Он будет просто выполнять свои потребности, потому что у каждого человека есть потребность в определенной символической жизни, ему надо как-то оформлять свой трансцендентный опыт, нужно как-то осмыслить свою будущую смерть, смерть своих близких. Церковные обряды этому очень помогают, но еще не делают его христианином. Он может с таким же успехом реализовать все эти потребности в любой другой религии. И может быть даже наоборот – человек живет Христом, но не активный прихожанин, не бегает по монастырям, не подает записки и т.д. Такое тоже бывает.
Но в идеале христианин – это человек, который живет в своей христианской общине, собранной вокруг Чаши Евхаристии, вокруг Христа, не просто причащающийся, а причащающийся в своей общине. С чего начинается проповедь? «Братья и сестры». То есть каждый христианин не сам по себе, а кому-то брат или кому-то сестра – вот в чем важнейшая идея. Я не сам по себе, я не могу сам «удовлетворять свои религиозные потребности», не могу довольствоваться идеями или просто этикой, хорошей нравственной жизнью – мне нужно принадлежать какой-то общине. Это принципиально.
Эти общины должны быть не только мистическим единением, но и единением в школьном смысле слова. Мы в Церкви когда-то проворонили важнейшую задачу – воспитывать людей. Мы их сейчас не воспитываем, мы должны это честно признать. Мы, священники, пастыри, упустили из виду эту правильную, очень деликатную школьность, но очень важную. Человек приходит в храм, случайно прирастает к общине (в лучшем случае) и потом как-то стихийно живет в ней. А мы должны воспитывать, как это было, например, в старинных монастырях.
Наш настоятель (сейчас уже покойный) рассказывал мне, как в 1968 году пришел в Троице-Сергиеву лавру. Там были старые монахи, и вновь пришедших они первым делом учили ходить – как правильно ходить, чтобы не потревожить брата, живущего в соседней келье, как правильно носить одежду, как правильно вести себя на трапезе и т.д. Казалось бы, совершенно внешние вещи, тем не менее с них начиналась духовная жизнь. Не с Иисусовой молитвы, не с откровения помыслов (хотя это тоже присутствовало), но с простых внешних вещей.
Мне кажется, нам в церкви тоже нужна эта школьность, чтобы человек не стихийно прирастал к общине, привнося в нее свое понимание, совершенно светские представления и опыт, выдавая это за нечто церковное, но прежде всего начинать с самых простых вещей, как в этом монастыре: с элементарной деликатности. Часто я провожу в нашем монастыре экскурсии, у нас чудотворная икона, и приезжает много людей. Мне часто приходится наблюдать картину, которая знакома, наверное, многим православным экскурсоводам – когда люди подходят к святыне, они совсем не думают о тех, кто стоит рядом с ними, не понимают, что кого-то задерживают. Женщина подошла к иконе, бухнулась на колени, что-то шепчет, а за ней еще человек сто. Они опаздывают, а она молится и совершенно не обращает внимания на то, что рядом есть другие люди, – вот это принципиальный изъян.
Разве можно дальше говорить о том, что надо как-то погружаться в стихию покаяния, непрестанной молитвы и т.д., если нет элементарной деликатности по отношению к человеку, который стоит рядом? Если вы не думаете о том, что причиняете беспокойство другому человеку. Прежде всего нужно помнить, что ты часть общины, часть человеческого общества, и приложить все усилия, чтобы не поцарапать другого человека, никак его не уязвить, не поставить ему синяк порой даже в прямом смысле слова.
Или еще – если у нас уж такой откровенный разговор – отношение к прихожанам в храме или в святыне, куда приезжают паломники. Когда я путешествовал по Святой Земле, меня очень поразило посещение монастыря святого Герасима Иорданского: я очень люблю кошек, а там история про льва... Это был единственный монастырь, где нас, паломников, не спросили, кто мы, откуда, внесли ли мы деньги. Как только мы зашли на территорию, нам сразу предложили сок, хлеб, оливки, воду, присесть, отдохнуть, потому что там очень жарко. И это очень красиво. А у нас я наблюдаю совсем иное: приезжают паломники, и они вынуждены искать где-то за территорией монастыря комнату, где после долгого путешествия можно решить свои сложности. Это невозможно. Тем более никто тебе не предложит стакан воды, чаю и т.д., а это первые вещи, с которых нам надо начинать наши духовные отношения и проповедь.
У нас в Гомеле лежат мощи святой Манефы Гомельской. В начале девяностых я как раз занимался собиранием материалов о ней и узнал много интересных вещей. Например, к ней ехали из разных стран, городов, и она всех принимала. Но каким образом? Приезжали люди разной веры, атеисты, потому что это было советское время. Прежде чем начать разговор, она непременно сажала человека за стол. Причем кормила от души, так что человек потом неделю не ел. Совершенно незнакомого человека она первым делом успокаивала, и только потом начинался разговор. Вот это правильный подход, это уважение к немощам человека, к его ранимости, каким-то простым вещам. Вот с чего надо начинать проповедь, а не с каких-то высоких материй. Вот с чего надо начинать самовоспитание. И это, кстати, вещи, которые нам по силам. Может быть, у нас не очень получается с какими-то духовными откровениями, но приветливо встретить человека, накормить его, напоить, успокоить – это то, что нам по плечу.
– Все время нашей беседы с Вами у меня в голове вертится фраза: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Можно ли в принципе предугадать последствия своих слов, дел, своей проповеди?
– Конечно, можно предугадать. Но не в моем случае. (Смеется.) Я никогда не знаю, как «слово отзовется»: иногда люди понимают его не так. Помните хрестоматийный пример из «Мастера и Маргариты», когда Иешуа говорит: ходит, ходит за мной некий с козлиным пергаментом и записывает, но однажды я туда заглянул и ничего из того, что говорил, не нашел. Это, конечно, светский образ, но очень часто мы сталкиваемся с тем, что ты говоришь нечто человеку, особенно если человеку молодому, а он тебя понимает иначе, слышит что-то свое. Такое случается.
Слово – это на самом деле большой риск. Поэтому гораздо важнее то, что за словами. И, может быть, сейчас то время, когда следует проповедовать больше делами, чем словом. Вместо того чтобы много говорить, просто взять и делать так, как человек, которым я очень восхищаюсь, – Доктор Лиза. Она приехала из Америки, увидела свою маму в жалком положении и что это не только ее мама, а много стариков в России находятся в таком жутком, унизительном умирании. Вместо того чтобы ругаться, клеймить кого-то или просто сбежать в Америку, она взяла и сделала – организовала общество, стала облегчать жизнь старикам, бедным больным детям и т.д.
Это, наверное, самая сильная проповедь, которая нам сейчас доступна. Возможностей для дела очень много. И я говорю о том, что человеку можно предложить стакан воды, просто улыбнуться. Пришел в церковь незнакомый человек, а вы ему просто улыбнитесь и скажите: «Доброе утро!» Это очень много – просто сказать «доброе утро» или «здравствуйте». Хотя бы заметьте человека, и ему не надо будет много говорить о Христе и Евангелии – он уже увидел, что вы восхищаетесь им, потому что он есть. А это просто замечательно. Проповедь делом – это тоже таинство, таинство веры.
– У нас есть вопрос по 50-му псалму: Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Поясните, пожалуйста, что значит «научу».
– Это, наверное, очень широкая трактовка. Вспомним, что говорит это пророк Давид… Например, как он научил Голиафа. Тот, наверное, много понял, но что именно, мы, видимо, никогда не узнаем. Все-таки тексты очень древние. «Беззаконных учите» – это очень просто, потому что люди понимают свой грех, если речь идет о тех, кто совершает какие-то беззакония, нарушения, преступления заповедей и т.д.
Сейчас постепенно исчезает осознание того, что нечто греховно, люди утрачивают интуицию греха – вот в чем настоящая проблема. Даже совесть, бывает, не справляется с этими нагрузками. Апостол Павел говорит о людях с сожженной совестью. К сожалению, бывают и такие. Но люди, пережившие большие падения, все прекрасно понимают. Люди, которые крепко, с размахом грешили, как это ни странно, наиболее открыты Евангелию, потому что они знают глубины падения, они уже побывали в аду: сам греховный поступок – это и есть путешествие в ад. Наказание – горечь греха – находится уже в самом проступке, поэтому они очень хорошо понимают, от чего нас спасает Христос, что значит – быть вырванным из ада. На самом деле это, наверное, самая благодарная аудитория – люди, узнавшие, что такое настоящий ад.
– Вспоминается Силуан Афонский, который буквально побежал в монастырь, чтобы сказать: «Я услышал гул адского пламени!»
Последний вопрос сегодняшней передачи тоже касается проповеди. Мы знаем изречение: «Иных увещевайте страхом». И мы часто понимаем это как призыв к тому, чтобы как можно больше говорить в проповеди о Страшном суде, о страхе Господнем. Но не все понимают, как связаны Бог и страх.
– Опять же это трудности перевода – как понимать слово «страх»? Нужно напугать? Почитай «Мытарства Феодоры» и потом беги на исповедь? Будет ли эта любовь долговечной? На сколько хватит страха, чтобы быть с Богом? И не превратятся ли наши отношения с Ним в некий «стокгольмский синдром» – меня взяли в заложники, застали врасплох, и я уже вынужден быть...
На самом деле здесь надо быть очень деликатным и осторожным. Я думаю, что святые отцы имели в виду страх, который переживали мистики, – это страх небытия. В каком смысле? Евангелие начинается с откровения о Боге воплощенном – Творец мира становится Своим собственным произведением. Это очень странно, это мысль, которая не помещается в голове. Мне кажется, что святые люди, которые погружались в молитву (созерцание бытия, самых его глубин), однажды вдруг переживали свою небытийность. Потому что на самом деле есть – в полном смысле слова – только Бог, а мы Его произведения, Его создания.
Переживание своей созданности, своей тварности (говоря языком святых отцов), наверное, и есть начало страха Божия – опыта собственного небытия, трепета, который пронизывал святых отцов. Эта небытийность в своей глубине, наверное, и есть самое ближайшее откровение Бога-Творца, когда тебя подхватывает на руки Сам Господь. Ты вываливаешься из этого небытия, ты просто боишься, что на самом деле не существуешь. Но это очень тонкое духовное упражнение, это глубины мистики. Мне кажется, это тот самый страх, о котором говорили святые отцы. Не испуг перед теми описаниями, которые часто встречаются в наших брошюрках, а страх совсем иного рода, очень глубокий и доступный немногим.
Ведущий Глеб Ильинский
Записала Ксения Сосновская
Нравится:
TweetАнонс ближайшего выпуска
В московской студии нашего телеканала на вопросы телезрителей отвечает настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко.
Мы в контакте
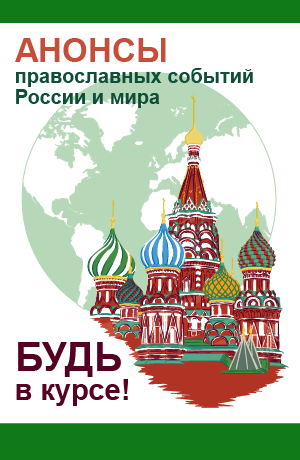
Последние телепередачи
-
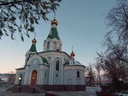 24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
24 апреля 2024 г.
Трансляции богослужений
Литургия Преждеосвященных Даров 24 апреля 2024 года
-
 23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
Москва. VIII фестиваль «Молодые таланты Отечества»
-
 23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
Каменск-Уральский. Фестиваль русского народного творчества «Праздник деревянной ложки»
-
 23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
Алма-Ата. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Целительница»
-
 23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
23 апреля 2024 г.
«Анонсы православных событий»
Санкт-Петербург. XVI Студенческая конференция СПбДА
Вопросы и ответы
-
Ответ:
Допустимо ли не причащаться, присутствуя на литургии?
— Сейчас допустимо, но в каждом конкретном случает это пастырский вопрос. Нужно понять, почему так происходит. В любом случае причастие должно быть, так или иначе, регулярным, …
-
Ответ:
Каков смысл тайных молитв, если прихожане их не слышат?
— Тайными молитвы, по всей видимости, стали в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало …
-
Ответ:
Какой была подготовка к причастию у первых христиан?
— Трудно сказать. Конечно, эта подготовка не заключалась в вычитывании какого-то особого последования и, может быть, в трехдневном посте, как это принято сегодня. Вообще нужно сказать, …
-
Ответ:
Как полноценная трапеза переродилась в современный ритуал?
— Действительно, мы знаем, что Господь Сам преломлял хлеб и давал Своим ученикам. И первые христиане так же собирались вместе, делали приношения хлеба и вина, которые …







